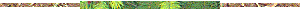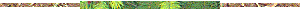
СВ: Ничего себе первое впечатление.
ИБ: Нет, первое впечатление было другое. И оно
почти свело меня с ума, как только я туда вошел, в эту
палату. Меня поразила организация пространства там. Я
до сих пор не знаю, в чем было дело: то ли окна немнож-
ко меньше обычных, то ли потолки слишком низкие, то ли
кровати слишком большие. А кровати там были такие же-
лезные, солдатские, очень старые, чуть ли не николаевс-
кого еще времени. В общем, налицо было колоссальное на-
рушение пропорций. Как будто вы попадаете в какую-то
горницу XVI века, в какие-нибудь Поганкины палаты, а
там стоит современная мебель.
СВ: Утки?
ИБ: Ну уток там как раз и не было. Но это наруше-
ние пропорций совершенно сводило меня с ума. К тому же
окна не открываются на прогулку не водят, на улицу вый-
ти нельзя. Там всем давали свидания с родными, кроме
меня.
СВ: Почему?
ИБ: Не знаю. Вероятно, считали меня самым злост-
ным.
СВ: Я хорошо понимаю это ощущение полной изоляций.
Но ведь и в тюрьме в одиночке было не слаще?
ИБ: В тюремной камере можно было вызвать надзира-
теля, если с вами приключался сердечный припадок или
что-то в этом роде. Можно было позвонить - для этого
существовала такая ручка, которую вы дергали. Беда зак-
лючалась в том, что если вы дергали эту ручку второй
раз, то звонок уже не звонил. Но в психушке гораздо ху-
же, потому что вас там колют всяческой дурью и заталки-
вают в вас какие-то таблетки.
СВ: А уколы - это больно?
ИБ: Как правило, нет. За исключением тех случаев,
когда вам вкалывают серу. Тогда даже движение мизинца
причиняет невероятную физическую боль. Это делается для
того, чтобы вас затормозить, остановить, чтобы вы абсо-
лютно ничего не могли делать, не могли пошевелиться.
Обычно серу колют буйным, когда они начинают метаться и
скандалить. Но кроме того санитарки и медбратья таким
образом просто развлекаются. Я помню, в этой психушке
были молодые ребята с заскоками, попросту - дебилы. И
санитарки начинали их дразнить. То есть заводили их,
что называется, эротическим образом. И как только у
этих ребят начинало вставать, сразу же появлялись медб-
ратья и начинали их скручивать и колоть серой. Ну каж-
дый развлекается как может. А там, в психушке, служить
скучно, в конце концов.
СВ: Санитары сильно вас допекали?
ИБ: Ну представьте себе: вы лежите, читаете - ну
там, я не знаю, Луи Буссенара - вдруг входят два медб-
рата, вынимают вас из станка, заворачивают в простынь и
начинают топить в ванной. Потом они из ванной вас выни-
мают, но простыни не разворачивают. И эти простыни на-
чинают ссыхаться на вас. Это называется "укрутка". Во-
обще было довольно противно. Довольно противно... Русс-
кий человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что
дурдом лучше, чем тюрьма. Между прочим, "от сумы да от
тюрьмы не зарекайся", да? Ну это было в другое время...
СВ: А почему, по-вашему, русский человек полагает,
что дурдом все-таки лучше тюрьмы?
ИБ: Он из чего исходит? Он исходит из того, - и
это нормально, - что кормежка лучше. Действительно,
кормежка в дурдоме лучше: иногда белый хлеб дают, мас-
ло, даже мясо.
СВ: И тем не менее, вы настаиваете, что в тюрьме
все-таки лучше.
ИБ: Да, потому что в тюрьме, по крайней мере, вы
знаете, что вас ожидает. У вас срок - от звонка до
звонка. Конечно, могут навесить еще один срок. Но могут
и не навесить. И в принципе ты знаешь, что рано или
поздно тебя все-таки выпустят, да? В то время как в су-
масшедшем доме ты полностью зависишь от произвола вра-
чей.
СВ: Я понимаю, что этим врачам вы доверять не мог-
ли...
ИБ: Я считаю, что уровень психиатрии в России -
как и во всем мире - чрезвычайно низкий. Средства, ко-
торыми она пользуется, - весьма приблизительные. На са-
мом деле у этих людей нет никакого представления о под-
линных процессах, происходящих в мозгу и в нервной сис-
теме. Я, к примеру, знаю, что самолет летает, но каким
именно образом это происходит, представляю себе доволь-
но слабо. В психиатрии схожая ситуация. И поэтому они
подвергают вас совершенно чудовищным экспериментам. Это
все равно, что вскрывать часовой механизм колуном, да?
То есть вас действительно могут бесповоротно изуродо-
вать. В то время как тюрьма - ну что это такое, в конце
концов? Недостаток пространства, возмещенный избытком
времени. Всего лишь.
СВ: Я вижу, что к тюрьме вы как-то приноровились,
чего нельзя сказать о психушке.
ИБ: Потому что тюрьму можно более или менее пере-
терпеть. Ничего особенно с вами там не происходит: вас
не учат никого ненавидеть, не делают вам уколов. Конеч-
но, в тюрьме вам могут дать по морде или посадить в ши-
зо...
СВ: Что такое шизо?
ИБ: Штрафной изолятор! В общем, тюрьма - это нор-
мально, да? В то время как сумдом... Помню, когда я пе-
реступил порог этого заведения, первое, что мне сказа-
ли: "главный признак здоровья - это нормальный крепкий
сон". Я себя считал абсолютно нормальным. Но я не мог
уснуть! Просто не мог уснуть! Начинаешь следить за со-
бою, думать о себе. И в итоге появляются комплексы, ко-
торые совершенно не должны иметь места. Ну это неваж-
но...
СВ: Расскажите о "Крестах". Ведь само это название
- часть петербургско-ленинградского фольклора, как и
Большой дом.
ИБ: Чисто визуально "Кресты" - это колоссальное
зрелище. Я имею в виду не внутренний двор, потому что
он довольно банальный. Да я его и видел, работая в мор-
ге. А вот вид изнутри! Потому что эту тюрьму построили
в конце XIX века. И это не то чтобы арт нуво, но
все-таки: все эти галереи, пружины, проволока...
СВ: Похоже на Пиранези?
ИБ: Чистый Пиранези! Абсолютно! Такой - а ля рюсс.
Даже не а ля рюсс, а с немецким уклоном. Похоже на Пу-
тиловский завод. Красный кирпич везде. В общем, доволь-
но приятно. Но потом было уже менее интересно, потому
что меня поместили в общую камеру, где нас было четыре
человека. Это уже сложнее, ибо начинается общение. А в
одиночке всегда гораздо лучше.
СВ: А как менялись ваши эмоции от первой к третьей
посадке?
ИБ: Ну когда меня вели в "Кресты" в первый раз, то
я был в панике. В состоянии, близком к истерике. Но я
как бы ничем этой паники не продемонстрировал, не выдал
себя. Во второй раз уже никаких особых эмоций не было,
просто я узнавал знакомые места. Ну а в третий раз это
уж была абсолютная инерция. Все-таки самое неприятное -
это арест. Точнее, сам процесс ареста, когда вас берут.
То время, пока вас обыскивают. Потому что вы еще ни
там, ни сям. Вам кажется, что вы еще можете вырваться.
А когда вы уже оказываетесь внутри тюрьмы, тогда уж все
неважно. В конце концов, это та же система, что и на
воле.
СВ: Что вы имеете в виду?
ИБ: Видите ли, я в свое время пытался объяснить
своим корешам, что тюрьма - это не столь уж альтерна-
тивная реальность, чтобы так ее опасаться. Жить тихо,
держать язык за зубами - и все это из-за боязни тюрьмы?
Бояться-то особенно нечего. Может быть, мы этого ничего
уже не видели потому, что были другим поколением? Может
быть, у нас порог страха был немножечко ниже, да?
СВ: Вы хотите сказать - выше?
ИБ: В общем, когда моложе - боишься меньше. Дума-
ешь, что перетерпеть можешь больше. И потому перспекти-
ва потери свободы не так уж сводит тебя с ума.
СВ: А как у вас сложились отношения со следовате-
лями?
ИБ: Ну, я просто ни на какое общение не шел, ни на
какие разговоры. Просто держал язык за зубами. Это их
выводило из себя. Тут они на тебя и кулаками стучать, и
по морде бить...
СВ: Что, действительно били?
ИБ: Били. Довольно сильно, между прочим. Несколько
раз.
СВ: Но ведь это было время, как тогда любили гово-
рить, сравнительно вегетарианское. И вроде бы бить не
полагалось?
ИБ: Мало ли что не полагалось.
СВ: А разве нельзя было эти побои каким-то закон-
ным образом обжаловать?
ИБ: Каким? Это, знаете ли, было еще до расцвета
правозащитного движения.
СВ: Многие из нас, кто на самом процессе Бродского
не был, знакомы, тем не менее, с его ходом по стеногра-
фическим записям, сделанным в зале суда журналисткой
Фридой Вигдоровой. Эти записи широко ходили в российс-
ком самиздате. Они аккуратно отражают ход судебного
разбирательства?
ИБ: Аккуратно, но там ведь не все. Там, может
быть, одна шестая процесса. Потому что ведь ее выстави-
ли из зала довольно быстро. А уж потом начались наибо-
лее драматические, наиболее замечательные эпизоды.
СВ: Я считал эти записи выдающимся документом.
ИБ: Вы, может быть, считаете, а я - нет. Не говоря
уж о том, что этот документ был с тех пор напечатан ты-
сячу раз. Не так уж это все и интересно, Соломон. По-
верьте мне.
СВ: Ну об уникальности этого документа как раз и
свидетельствует тот факт, что он был опубликован по
всему миру. И с тех пор цитировался бесчисленное коли-
чество раз.
ИБ: Мне повезло во всех отношениях. Другим людям
доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяже-
лее, чем мне.
СВ: Особенность этого процесса была в том, что су-
дили поэта. В России поэт - фигура символическая, осо-
бенно талантливый. И никакому другому русскому поэту
вашего ранга в тот период так же сильно от властей не
досталось.
ИБ: Ну я тогда не был поэтом никакого ранга. Во
всяком случае, с моей собственной точки зрения. Может
быть, с точки зрения - не знаю уж там, Господа Бога...
СВ: Вас в России тогда не печатали, но читали и
почитали, потому что стихи ваши достаточно широко рас-
ходились в самиздате. О большем признании в тот момент
и мечтать, наверное, нельзя было. Власти более или ме-
нее представляли себе, кого они судят. Вы что, хотели
бы, чтобы они устроили процесс в тот момент, когда вы
получите Нобелевскую премию?
ИБ: Можно было бы!
СВ: Процесс над вами пришелся на исторически очень
важный для России момент. В тот период у многих были
упования, что дело идет к большей свободе. Хрущев раз-
решил напечатать "Один день Ивана Денисовича" Солжени-
цына. Начали устраивать какие-то выставки, играть сов-
ременную музыку. Я хорошо помню это ощущение каких-то
ожиданий.
ИБ: Ну это был уже конец хрущевского периода. Его
же как раз в октябре 1964 года и скинули.
СВ: А когда перечитываешь стенограмму Вигдоровой,
понимаешь, что все эти надежды были наивными. У меня
лично при чтении записей Вигдоровой волосы встают ды-
бом.
ИБ: Ну это напрасно.
СВ: Потому что воочию видишь, как эта государс-
твенная машина движется, подминая под себя все незави-
симое, творческое, свободолюбивое. Она идет как бульдо-
зер.
ИБ: Видите ли, мне с самого начала процесса было
ясно, что они хозяева. И поэтому они вправе на вас да-
вить. Вы становитесь инородным телом, и в этот момент
на вас автоматически начинают действовать все соответс-
твующие физические законы - изоляции, сжатия, вытесне-
ния. И ничего в этом экстраординарного нет.
СВ: Вы оцениваете это так спокойно сейчас, задним
числом! И, простите меня, этим тривиализируете значи-
тельное и драматичное событие. Зачем?
ИБ: Нет, я не придумываю! Я говорю об этом так,
как на самом деле думаю! И тогда я думал так же. Я от-
казываюсь все это драматизировать!
СВ: Я понимаю, это часть вашей эстетики. Но сте-
нограмма Вигдоровой тоже, в общем, не драматизирует
происходящего. Она не нагнетает эффектов. И все-таки
она производит потрясающее впечатление. При том что -
как вы утверждаете - в записи Вигдоровой самая драмати-
ческая часть процесса не попала.
ИБ: На мой взгляд - да.
СВ: И самое для меня в этих записях страшное - это
реакция зала, так называемых "простых людей",
ИБ: Ну зал-то наполовину состоял из сотрудников
госбезопасности и милиции. Такого количества мундиров я
не видел даже в кинохронике о Нюрнбергском процессе.
Только что касок на них не было! Мой процесс - это то-
же, кстати, то еще кино было! Кинокомедия! И эта коме-
дия была куда занятней, чем то, что описала Вигдорова.
Самое смешное, что у меня за спиной сидели два лейте-
нанта, которые с интервалом в минуту, если не чаще, го-
ворили мне - то один, то другой: "Бродский, сидите при-
лично!", "Бродский, сидите нормально!", "Бродский, си-
дите как следует!", "Бродский, сидите прилично!". Я
очень хорошо помню: эта фамилия - "Бродский", после то-
го, как я услышал ее бесчисленное количество раз - и от
охраны, и от судьи, и от заседателя, и от адвоката, и
от свидетелей - потеряла для меня всякое содержание.
Это как в дзен-буддизме, знаете? Если ты повторяешь
имя, оно исчезает. Эта идея даже имеет прикладное при-
менение. Если ты, скажем, хочешь отделаться от мысли о
Джордже Вашингтоне, повторяй: "Джордж Вашингтон, Джордж
Вашингтон, Джордж Вашингтон... " На семнадцатый раз -
может, и раньше, потому что для меня, скажем, это имя
иностранное, - мысль о Джордже Вашингтоне становится
полным абсурдом. Таким же абсурдом быстро стал для меня
и процесс. Единственное, что на меня тогда, помню, про-
извело впечатление, это выступления свидетелей защиты -
Адмони, Эткинда. Потому что они говорили какие-то пози-
тивные вещи в мой адрес. А я, признаться, хороших вещей
о себе в жизни своей не слышал. И поэтому был даже нем-
ножко всем этим тронут. А во всем остальном это был
полный зоопарк. И, поверьте, никакого впечатления все
это на меня не произвело. Действительно никакого!
СВ: В связи с процессом я хочу вас спросить еще об
одной вещи. На суде поминался ваш юношеский дневник, в
котором вы якобы "поносили Маркса и Ленина". Вы в Рос-
сии вели дневник?
ИБ: Да нет, с какой стати? Какой вообще русский
человек может позволить себе вести дневник? Мальчишкой,
когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать, я попытался
вести нечто вроде дневника, в который я записывал мои
собственные замечания по поводу советской власти,
представлявшиеся мне остроумными. И не более того. Те-
перь все это находится в архивах КГБ. А никакого друго-
го дневника не было.
СВ: А здесь, на Западе, вы никогда не пробовали
вести дневник?
ИБ: Вы знаете, пробовал, И даже совсем недавно. Но
я решил, что уж если я его буду вести, то а ля государь
император - по-английски. То есть как Николаша вел. И
что-то я там даже начал записывать. Но, в общем, нет,
дневника я в итоге ни в коем случае не веду. Ну как-то
не до этого. Нет нужного покоя. Для ведения дневника
нужна жизнь а ля Лев Николаевич Толстой, да?
СВ: В Ясной Поляне?
ИБ: Да, в собственной усадьбе. Где жизнь идет раз-
меренно. Чтобы вести дневник, нужен какой-то установив-
шийся быт. А этого у меня нет.
________________
* Бродский ошибается. Архитекторы "Большого дома"
- Н.А. Троцкий и Е.Н. Лансере (прим. редактора).
Ссылка на север:
весна 1986
СВ: Давайте поговорим о вашей ссылке. Мне об этом
интересно узнать по многим причинам. В частности и по-
тому, что меня всегда очень привлекал русский Север.
ИБ: Ну это был не совсем тот русский Север, о ко-
тором обычно идет речь в художественной литературе или
искусстве. И который так любят интеллигентные люди в
России. Но зато он был настоящий.
СВ: Вот и расскажите мне о настоящем Севере. Как
вы туда попали? Как развивались события после процесса?
ИБ: После суда меня отправили назад в участок, а
из участка в "Кресты". Из "Крестов" этапом через Волог-
ду в Архангельск. Там меня посадили на поезд и повезли.
Куда везут, я не знал. И никто в поезде не знал.
СВ: Была целая партия?
ИБ: Да, причем там были кто угодно. В большинстве
своем, уголовники. Никаких так называемых интеллигент-
ных людей мне там не попадалось. Хотя был один человек,
который, надо сказать, раз и навсегда снял для меня всю
эту проблему правозащитного движения с повестки дня. Он
был со мной в одном купе.
СВ: А что, ехали в нормальных поездах, с купе?
ИБ: Нет, ну какие там нормальные поезда? Ехали в
"Столыпине".
СВ: А что это такое - "Столыпин"?
ИБ: "Столыпин" - это тюремный вагон. Так называе-
мый вагонзак. Существовал он в двух образцах: до модер-
низации и после. У нас был старенький "Столыпин". Окна
в купе забраны решетками и заколочены, забиты ставнями.
Купе по размеру рассчитано на четырех человек, как
обычно. Но в этом купе на четырех везут шестнадцать,
да? То есть верхняя полка перекидывается и ее использу-
ют как сплошной лежак. И вас туда набивают как, дейс-
твительно, сельдей в бочку. Или, лучше сказать, как
сардинки в банку. И таким образом вас везут.
СВ: Как же вы там выживали?
ИБ: Это был, если хотите, некоторый ад на колесах:
Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас
не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз.
Дышать нечем. А публика - главным образом блатари. Люди
уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим - а
там с шестнадцатым. И вот в таком вагоне сидит напротив
меня русский старик - ну как их какой-нибудь Крамской
рисовал, да? Точно такой-же - эти мозолистые руки, бо-
рода. Все как полагается. Он в колхозе со скотного дво-
ра какой-то несчастный мешок зерна увел, ему дали шесть
лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно,
что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до
освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный чело-
век - ни в России, ни на Западе - на его защиту не по-
дымется. Никогда! Просто потому, что никто и никогда о
нем и не узнает! Это было еще до процесса Синявского и
Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащит-
ное начиналось, Но за этого несчастного старика никто
бы слова не замолвил - ни Би-Би-Си, ни "Голос Америки".
Никто! И когда видишь это - ну больше уже ничего не на-
до... Потому что все эти молодые люди - я их называл
"борцовщиками" - они знали, что делают, на что идут,
чего ради. Может быть, действительно ради каких-то пе-
ремен. А может быть, ради того, чтобы думать про себя
хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудито-
рия, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого стари-
ка никакой аудитории нет. Может быть, у него есть его
бабка, сыновья там. Но бабка и сыновья никогда ему не
скажут: "Ты благородно поступил, украв мешок зерна с
колхозного двора, потому что нам жрать нечего было". И
когда ты такое видишь, то вся эта правозащитная лирика
принимает несколько иной характер.
СВ: И куда же вас привезли?
ИБ: В Каношу. Это такая станция между Вологдой и
Няндомой, в южной части Архангельской области. В Коноше
меня расконвоировали. Начальником отделения милиции там
был майор Одинцов, как сейчас помню. Единственный,
по-моему, приличный человек, которого я встретил в этой
системе. Сейчас-то он, наверное, в отставке или мертв.
Потому что при той жизни, я думаю, долго протянуть
нельзя. Совершенно замечательный человек был. Ну вот. И
он послал меня, как и всех других высланных, искать ра-
боту в окрестных деревнях.
СВ: Как это - искать работу? Разве вас не посылали
в определенное место?
ИБ: Нет, нам говорили: вот поезжайте туда-то и по-
говорите - если вас возьмут на работу, мы вас, что на-
зывается, поддержим. И так я нашел себе это самое село
Норенское Коношского района. Очень хорошее было село.
Оно мне еще и потому понравилась, что название было по-
хоже чрезвычайно на фамилию тогдашней жены Евгения Рей-
на.
СВ: Это был колхоз?
ИБ: Нет, совхоз.
СВ: И что была за работа?
ИБ: Ну работа там какая - батраком! Но меня это
нисколько не пугало. Наоборот, ужасно нравилось. Потому
что это был чистый Роберт Фрост или наш Клюев: Север,
холод, деревня, земля. Такой абстрактный сельский пей-
заж. Самое абстрактное из всего, что я видел в своей
жизни.
СВ: Что вы имеете в виду?
ИБ: Я уж не знаю, как это объяснить. Никаких осо-
бенных теорий у меня на этот счет нет, могу говорить
исключительно про ощущения. Прежде всего, специфическая
растительность. Она, в принципе, непривлекательна - все
эти елочки, болотца. Человеку там делать нечего ни в
качестве движущегося тела в пейзаже, ни в качестве зри-
теля. Потому что чего же он там увидит? И это колос-
сальное однообразие в итоге сообщает вам нечто о мире и
о жизни.
СВ: А белые ночи?
ИБ: Совершенно замечательные! Они вносили элемент
полного абсурда, поскольку проливали слишком много све-
та на то, что этого освещения совершенно не заслужива-
ло. И тогда вы видели то, чего можно в принципе и вооб-
ще не видеть дольше чем нужно.
СВ: Мне тоже знакомо это ощущение, когда белый
ровный свет освещает серую ровную поверхность.
ИБ: И постройки там соответствующие. Я говорю не о
планировке домов, а исключительно об их цвете. Дома де-
ревянные, а дерево это - словно выцветшее.
СВ: А люди там какого цвета?
ИБ: Как правило, русоволосые. То есть того же са-
мого цвета. И одеваются они так же. В итоге цветовая
гамма там абсолютно единая. Я всегда говорю, что если
представить себе цвет времени, то он скорее всего будет
серым. Это и есть главное зрительное впечатление и ощу-
щение от Севера.
СВ: А как вы переносили холода?
ИБ: Когда зимой температура начинает падать - сна-
чала до пятнадцати градусов по Цельсию, потом до двад-
цати, потом до двадцати пяти - ты еще замечаешь, что
мороз крепчает, что становится все холоднее и холоднее.
Но температура продолжает падать и дальше, когда ты уже
перестаешь замечать ее изменения как качественные, пе-
рестаешь на них реагировать. То есть температуре как бы
уже и незачем падать. Тем не менее она продолжает па-
дать. Нечто схожее, но с обратным знаком, происходит на
экваторе. Там - чудовищная жара, которая все увеличива-
ется, хотя ты это уже больше не воспринимаешь. Но в
этой эскалации жары есть хоть какой-то смысл. Поскольку
благодаря жаре какие-то дополнительные формы жизни про-
резаются на свет. В то время как при холоде этого как
раз не происходит.
СВ: Скорее наоборот!
ИБ: И у тебя словно появляется предысторическая
память - об обледенении, прочих подобных вещах. Но мне
это как раз чрезвычайно нравилось, такой вот неприклад-
ной характер природы.
СВ: Расскажите подробнее, что это за земли.
ИБ: Довольно специфические. Это были так называе-
мые суворовские дачи: земля, которую Екатерина Великая
подарила Суворову после каких-то его очередных побед.
Но он там никогда не бывал. И так получилось, что на
землях этих никогда не было помещиков. И единственный
оброк, который крестьяне платили, была десятина монас-
тырям.
СВ: То есть это были крепкие хозяйства?
ИБ: Да, довольно зажиточные - постольку, поскольку
позволял климат. И что самое удивительное - климат
действительно позволял. Потому что в Архангельске до
семнадцатого года, как это явствует из многих свиде-
тельств, вода буквально кипела от пароходов, вывозивших
производившееся в этих краях зерно. В то время как сей-
час она кипит потому, что зерно туда привозят из-за
границы. Я не хочу сказать, что у меня тоска по дорево-
люционным временам, потому что я и не жил тогда, и во-
обще мне все равно. Но факт, что до революции крестьяне
там, на Севере, горя особенного не хватили, да?
СВ: А после революции?
ИБ: Я об одной вещи могу сказать. С возникновением
совхозов, с внедрением механизации, культурный слой
почвы (а там он очень незначительный, поскольку все это
сидит на камнях, на граните) был снят тракторами. Ведь
в чем, собственно, прелесть патриархального способа об-
работки почвы? Не в том, что лошадка - это живое су-
щество, с которым можно поговорить и за гриву подер-
жаться. А в том, что плуг глубоко не берет, то есть не
разрушает культурный слой почвы.
СВ: Как же крестьяне там управлялись?
ИБ: Я туда приехал как раз весной, это был
март-апрель, и у них начиналась посевная. Снег сошел,
но этого мало, потому что с этих полей надо еще выворо-
тить огромнейшие валуны. То есть половина времени этой
посевной у населения уходила на выворачивание валунов и
камней с полей. Чтоб там хоть что-то росло. Про это го-
ворить - смех и слезы. Потому что если меня на свете
что-нибудь действительно выводит из себя или возмущает,
так это то, что в России творится именно с землей, с
крестьянами. Меня это буквально сводило с ума! Потому
что нам, интеллигентам, что - нам книжку почитать, и
обо всем забыл, да? А эти люди ведь на земле живут. У
них ничего другого нет. И для них это - настоящее горе.
Не только горе - у них и выхода никакого нет. В город
их не пустят, да если и пустят, то что они там делать
станут? И что же им остается? Вот они и пьют, спивают-
ся, дерутся, режутся. То есть просто происходит разру-
шение личности. Потому что и земля разрушена. Просто
отнята.
СВ: А эти люди верующие?
ИБ: Нет, на самом-то деле народ там совершенно не
церковный. Церковь в этой деревне была разрушена еще в
восемнадцатом году. Крестьяне мне рассказывали, что со-
ветская власть учинила у них с церковью. В мое время
кое у кого по углам еще висели иконы, но это скорее бы-
ло соблюдение старины и попытка сохранить какую-то
культуру, нежели действительно вера в Бога. То есть по
одному тому, как они себя вели и как грешили - ни о ка-
кой вере и речи быть не могло. Иногда чувствовался та-
кой как бы вздох, что вот - жить тяжело и, в общем, хо-
рошо бы помолиться. Но до ближайшей церкви им там ка-
нать было очень далеко. И потому речь об этом почти и
не заходила. Иногда они собирались, чтобы потрепаться,
но как правило все это в итоге выливалось в пьянство и
драки. Несколько раз хватались за ножи. Но в основном
это были драки - с крупным мордобитием, кровью. В об-
щем, хрестоматийная сельская жизнь.
СВ: И как же вы там обжились?
ИБ: А замечательно! Это, конечно, грех говорить
так, и, может быть, это даже и неверно, но мне гораздо
легче было общаться с населением этой деревни, нежели с
большинством своих друзей и знакомых в родном городе.
Не говоря уж об общении с начальством. Во всяком слу-
чае, так мне это тогда представлялось.
СВ: У кого же вы там, в деревне поселились?
ИБ: Сначала - у Анисьи Пестеревой. Как же ее по
отчеству? Боже правый, совершенно забываю. А потом - у
Константина Борисовича Пестерева и его жены Афанасьи
Михайловны. Они жили в двух избах: летом в летней, а
когда зима наступала, они переселялись в зимнюю избу.
И, поскольку мне не так уж много пространства и надо
было, я снимал у них зимой летнюю избу, а летом - зим-
нюю.
СВ: И сколько вы им платили за это?
ИБ: Ну, гроши: рублей сто, то есть десятку новыми.
Константин Борисович у меня все равно забирал эти день-
ги вперед - на бутылку, да? Замечательный человек был.
Вообще вся эта деревенская публика - за исключением од-
ного дегенерата-бригадира - была совершенно замечатель-
ная. А бригадир этот, кстати, не в этой деревне и жил.
СВ: А деревня была большая?
ИБ: Нет, там четырнадцать дворов всего и было. Но
я вот что скажу. Когда я там вставал с рассветом и рано
утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то
понимал, что в этот же самый час по всей, что называет-
ся, великой земле русской происходит то же самое: народ
идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность
к этому народу. И это было колоссальное ощущение! Если
с птичьего полета на эту картину взглянуть, то дух зах-
ватывает. Хрестоматийная Россия! Ну разумеется, работа
эта тяжелая, никто работать не любит, но люди там, в
деревне, колоссально добрые и умные. То есть не то что-
бы умные, но такие хитрые. Вот что замечательно.
СВ: И как они к вам относились?
ИБ: Совершенно замечательно! Видите ли, у них там
ни фельдшера не было, ничего. А у меня лекарства с со-
бой кое-какие были. И я как мог их подлечивал - знаете,
из старых своих медицинских амбиций. Давал им болеуто-
ляющее, аспирин. Ничего этого у них там не было. Или за
этим добром надо было ехать километров тридцать. Не
всякий день поедешь. Потому что дороги, как полагается,
чудовищные. У них ведь там и электричества не было, ни-
каких там "лампочек Ильича".
СВ: При керосиновых лампах сидели?
ИБ: Керосин, свечи... Красиво очень... Особенно
зимой, по ночам.
СВ: А крестьяне знали, за что вас сослали? Они
знали, что вы пишете стихи?
ИБ: Знали. Сначала они думали, что я шпион. Потому
что кто-то услышал по Би-Би-Си передачу - их можно было
поймать на приемнике "Родина", который работал на бата-
реях, знаете? И, значит, пустили слух, что я шпион. Но
потом они поняли, что нет, совсем не шпион. Тогда они
решили, что я за веру пострадал. Ну это была с их сто-
роны ошибка, и я объяснил им, что это не совсем так. А
потом они просто привыкли ко мне, довольно быстро при-
выкли. В гости приглашали. И когда я оттуда по освобож-
дении уезжал, то прощались со мной, я должен сказать,
довольно трогательно.
СВ: А чем вы питались?
ИБ: Ну там существовал магазин, сельпо, где прода-
вались хлеб, водка и мыло, когда его привозили. Иногда
появлялась мука, иногда - какие-то чудовищные рыбные
консервы. Которые я один раз попробовал и - какой я ни
был голодный - доесть никакие смог. Магазин этот, пока
я там был, обновили. И вот я помню - абсолютно пустые
прилавки и полки, новенькие такие. И только в одном уг-
лу - знаете, как в красном углу иконы? - сбились бухан-
ки хлеба и бутылки водки. И больше ничего нет!
СВ: А что еще ели? Мясо бывало?
ИБ: Знаете, это ведь был животноводческий совхоз,
они там выкармливали телят. Но мяса этого они никогда
не видели. Только если теленок сломает себе ногу, то
его, чем с ним возиться, прибивают. Тогда составляется
официальный акт, шкуру с теленка снимают, а мясо разда-
ют населению. И еще, если кто кабана держит, то кабана
можно заколоть. Так и живут.
СВ: А письма вам в ссылку приходили?
ИБ: Да, и даже довольно много. И сам я писем писал
довольно много.
СВ: И они доходили по назначению?
ИБ: Более или менее. Они, конечно, перлюстрирова-
лись, но мне это было как-то все равно. Ну в ряде слу-
чаев я выражался обиняками, но это было даже приятно,
поскольку ускоряет развитие метафорических систем. Та-
кие вещи всегда полезны для языка, тем более для лите-
ратора.
СВ: Письма вам приносил почтальон или вы должны
были за ними ездить?
ИБ: Нет, письма мне приходили на деревню, как и
всем остальным.
СВ: А свои письма вы откуда отправляли?
ИБ: Обыкновенно с почты, но иногда, если возникала
оказия, передавал шоферу. Тогда он бросал на железнодо-
рожной станции. Это вроде бы увеличивало шансы, что
письмо дойдет по назначению. Но районы-то эти - Каноша,
Няндома, Ерцево - традиционно лагерные. Так что там вся
корреспонденция в той или иной степени находилась под
наблюдением.
СВ: А вы сами находились под наблюдением?
ИБ: Как же! Раз или два в месяц приезжали ко мне
устраивать обыск из местного отделения...
СВ: Из местного отделения КГБ или милиции?
ИБ: А там это совершенно одно и то же, никакой
разницы нет. Два человека приезжали на мотоцикле, вхо-
дили ко мне в избу. Замечательная у меня изба была,
между прочим. Отношения - самые патриархальные. Я пони-
мал, зачем они приехали. Они: "Вот, Иосиф Александро-
вич, в гости приехали". Я: "Да, очень рад вас видеть".
Они: "Ну, как гостей надо приветствовать?" Ну я пони-
маю, что надо идти за бутылкой. Возвращался я с бутыл-
кой минут через сорок-пятьдесят, когда дело было уже
сделано. Они уже сидели всем довольные, поджидали меня.
Да и что они могли понять во всех этих книжках, которые
там валялись? Тут мы садились и распивали эту бутылку,
после чего они уезжали. Он весьма примечателен, этот
повальный алкоголизм, в который все государственные
программы и начинания в России в итоге и упираются.
Это, конечно, и грустно, и чудовищно. Но, с другой сто-
роны, что ж с этим поделаешь? И по крайней мере что-то
человеческое все-таки в людях оставалось благодаря это-
му.
СВ: Благодаря этой пьяни?
ИБ: Да, именно благодаря этой пьяни. И потому я в
принципе предпочел бы, чтобы начальники - там, наверху
- были алкашами, а не трезвенниками.
СВ: А вы думаете, они не алкаши?
ИБ: Думаю, что все-таки не алкаши, нет. Думаю, что
они дело свое как-то смекают. Если бы они были алкаши,
их бы там не было. Но о них мне неохота думать. Не та-
кой уж это замечательный предмет для размышлений. Да и
здоровье не позволяет уже...
СВ: А вы-то сами там пили?
ИБ: Вы знаете, не очень. Не очень. Потому что вод-
ка там была чудовищная, няндомской выделки. То есть
чистая табуретовка, поскольку делали ее из древесного
спирта. Ее если взболтнешь, она становилась белой как
молоко. И вот такую страшную водку народ там пил.
СВ: А сексуальная жизнь?
ИБ: Никакой.
СВ: Так все полтора года и просидели на воздержа-
нии?
ИБ: Более или менее да. Ну руки, конечно, шли в
ход. Но в общем - главным образом воздержание. Иногда
хозяин мой мне говорил: "Иосиф Александрович, поезжай в
Каношу!" А я туда выезжать имел право только получив
специальное разрешение от милиции. Вот я ему и отвечаю:
"Ну чего я туда поеду, Константин Борисович?" - "Там
клуб, девки... Поезжай, поезжай! Лучше будет!" А там в
клубе у местных, действительно происходило некоторое
сексуальное движение: приезжали шофера и все эти бро-
шенные бабы находили себе применение. А вообще-то там
шел такой колоссальный инцест, inbreeding. Потому что
там всего-то две или три фамилии, все друг с другом на-
ходятся в какой-то родственной связи. Ну, у бабы мужик
в поле, а в это время к ней председатель сельсовета бе-
жит. Все про это знают, но приличия тем не менее соблю-
даются. Мужик, например, идет в поле не просто, а теле-
фонограмму передать. Хотя в деревне телефона никакого
нету, а есть только вертушка такая.
СВ: А как вы там жили без воды?
ИБ: Почему ж без воды? Там были колодцы.
СВ: Нет, я другое имею в виду. Помните, вы говори-
ли мне о своей зачарованности петербургскими перспекти-
вами? А они ведь в Петербурге связаны с водой, с гори-
зонтом. Разве в ссылке где-нибудь рядом с вами была
большая река?
ИБ: Нет, только маленькая речка - Норежка. Дом, в
котором я жил большей частью, стоял на самом краю де-
ревни, на отшибе. И от меня до этой речки было ближе
всего. Речка-то эта была шириной с эту комнату, и даже
поуже. Только и дела, что мостик, И вы правы, конечно,
- отсутствие горизонта сводило меня с ума. Потому что
там были только холмы, холмы бесконечные. Даже не хол-
мы, а такие бугры, знаете? И ты посреди этих бугров.
Есть отчего сойти с ума. И если вернуться к нашему да-
вешнему разговору, то родной город чем особо приятен -
тем, что там огромные просторы, да? Стоишь на Литейном
мосту - и все, что творится за Троицким мостом, это уже
конец мира. Или наоборот - выход в новый мир. И, конеч-
но, солнце заходит за горизонт, а ты балдеешь от этого.
Но в этом кроется опасность банальной интерпретации. Ты
смотришь на закат и видишь в нем знамение. И тебе нев-
домек, что все эти невероятные краски связаны с прост-
ранством, с преломлением света. Это, знаете ли, колос-
сально интересное явление.
СВ: А книги к вам в ссылку доходили?
ИБ: Мне присылали книги, и довольно много. С кни-
гами было все в порядке. Когда я освободился, то увез с
собой в Ленинград сто с лишним килограмм книг.
СВ: А стихи вы там писали?
ИБ: Довольно много. Но ведь там и делать было
больше нечего. И вообще, это был, как я сейчас вспоми-
наю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не
хуже, но лучше - пожалуй, не было.
Роберт Фрост:
осень 1979 - зима 1982
СВ: Я знаю, вы считаете Фроста одним из самых
крупных поэтов XX века. Но для русского - и шире, для
европейского - читателя, как правило, Фрост не такая уж
грандиозная фигура. Вы меня своим отношением к Фросту
заставили взглянуть на этого поэта по-новому. Давайте
поговорим о Фросте, об англоязычной поэзии. Я хотел бы,
чтобы вы объяснили русскому читателю, в чем величие
Фроста.
ИБ: Русскому человеку Фроста объяснить невозможно,
совершенно невозможно.
СВ: Давайте попытаемся. Может быть, возможно найти
какие-нибудь параллели с русской поэзией?
ИБ: Единственная русская параллель Фросту, которая
мне сейчас приходит в голову, это белые стихи Ахмато-
вой, ее "Северные элегии". И Ахматовой, и Фросту до из-
вестной степени присуща общая черта - монотонность раз-
мера, монотонность звучания.
СВ: Псевдонейтральность отношения...
ИБ: Да, псевдонейтральность, вот эта глухая нота.
В "Северных элегиях" уже никто не кричит, не задыхает-
ся. Мы слышим звук самого времени. Вот за что мы все
так любим пятистопный ямб. Вот за что любил пятистопный
ямб Фрост. Фрост - это колоссальная сдержанность: ника-
ких восклицательных знаков, никакого подъема голоса. Но
"Северные элегии" все-таки написаны урбанисткой. В то
время как Фрост - поэт, теоретически, пасторальный. Ко-
нечно, это черные пасторали, но по жанру все же пасто-
ральная поэзия. То есть когда кошмарная ситуация (между
людьми, например) возникает на лоне природы. И тогда в
голову жертвам (или участникам) закрадывается подозре-
ние, что природа - на стороне их оппонентов. Что ты
споришь не с "ним" или с "ней", но с естественным по-
рядком вещей, и от этого тебе гораздо хуже, чем если бы
все это происходило в интерьере или в перспективе ули-
цы.
СВ: А русские крестьянские поэты XX века: Клюев,
Клычков, Орешин?
ИБ: Нет, эта параллель не годится. Иной пафос, со-
вершенно другая направленность воображения, сознания,
мышления.
СВ: Как вы впервые столкнулись с поэзией Фроста?
ИБ: Это смешная история. Давным-давно, когда я еще
жил в родном городе, кто-то дал мне машинопись: перево-
ды Андрея Сергеева из англоязычной поэзии. Помню, там
был перевод из Джойса, баллады из "Поминок по Финнега-
ну" и еще другие разнообразные вещи, которые меня неве-
роятно завели. Тогда я пустился на розыски остального,
буде таковое существовало, и таким образом раздобыл
стихи Фроста в переводе Сергеева. Тогда они были еще на
машинке, книжка вышла потом. Я прочел стихотворение,
которое по-русски называется "Сто воротничков", ужасно
интересное. И знаете, я просто не поверил, что есть та-
кой американский поэт Фрост. Я решил, что какой-то ге-
ниальный человек в Москве занимается этими делами, соз-
дает нечто вроде апокрифа. Но я все понял, когда нашел
эти "Сто воротничков" по-английски. То был, я думаю,
1962 год.
СВ: Вам не кажется, что сергеевские переводы Фрос-
та несколько суховаты?
ИБ: Все его переводы несколько суховаты. Дело в
том, что Сергеев относится к переводам чрезвычайно
серьезно. Он работает сдержанно не потому, что израсхо-
довал внутренние средства, а из нежелания быть сочным.
(К его работе над Фростом это, впрочем, не относится.
Фрост в принципе не сочен. Это Дилан Томас сочен, а его
Сергеев не так уж много и переводил.) С сочностью при-
ходят красоты, затемняющие суть оригинала. Сочность и
красота суть комплимент русскому языку. И они как бы
вынуждают читателя ориентироваться на собственный язык,
в данном случае - русский. А это крадет читателя у ори-
гинала. Или наоборот. Поэтому Сергеев свои переводы за-
сушивает - думаю, сознательно.
СВ: Мне кажется, в данном случае Сергеев прогады-
вает. Во взаимоотношении русского и английского языков
существует, как мне представляется, следующая законо-
мерность: при переводе с русского на английский отжима-
ешь, потому что русский более патетичен. В английском
восклицательный знак - событие. А при переводе с анг-
лийского на русский требуется какая-то дополнительная
инъекция. Очень уж английский язык сдержанный.
ИБ: На русский с английского переводить легче;
просто легче. Хотя бы потому, что грамматически русский
язык гораздо более подвижен. По-русски всегда можно на-
верстать упущенное, накрутить чего угодно, его сила в
придаточных предложениях, во всех этих деепричастных
оборотах и прочих грамматических обиняках, в которых
сам черт ногу сломит. Всего этого по-английски просто
не существует. И при английском переводе прелесть этого
сохранить - ну если не невозможно, то, по крайней мере,
невероятно трудно. Масса чего теряется. Перевод с русс-
кого на английский - одна из самых чудовищных головоло-
мок. Ты буквально ломаешь голову, ломаешь мозги. И го-
лов, готовых на это, не так уж много. А тем более го-
лов, в которых было бы достаточно чего ломать. Потому
что даже хороший, талантливый, гениальный поэт, интуи-
тивно понимающий задачу, неспособен восстановить русс-
кое стихотворение по-английски. Просто в английском
языке нету этих ходов. Переводчик связан чисто грамма-
тически, структурно. Вот почему перевод с русского на
английский - всегда некое выпрямление текста.
СВ: А с английского на русский?
ИБ: Тут можно делать все, что угодно. Даже эту
английскую прямолинейность можно засунуть в какой-ни-
будь более или менее съедобный оборот, так что ничего
не потеряешь. Главная трудность перевода с английского
на русский другая: отсутствие культурной подготовки чи-
тателя. Например, то, что в английском языке называется
"недоговоренностью", можно восстановить и по-русски. Но
русский читатель не в состоянии оценить эту недогово-
ренность по достоинству. По одной простой причине - он
не воспитан в культуре недоговоренности. Он не воспитан
в культуре сдержанности, глуховатой иронии.
СВ: Насколько я понимаю, вы не считаете, что анг-
лоязычная поэтическая традиция была когда-либо по-нас-
тоящему освоена русской культурой?
ИБ: Я думаю, в русском переводе повезло только од-
ному человеку - Фросту. Всем остальным - не очень-то,
даже тем, кого тот же Сергеев перевел.
СВ: Я помню антологию новой американской поэзии XX
века, выпущенную в 1939 году; ее составили Кашкин и
Зенкевич. Книгу мне выдала, в качестве особой милости,
школьная библиотекарша. Извлекла откуда-то, из пыльных
книжных завалов. По этой антологии я познакомился с
Вейчелем Линдзи, Эдгаром Ли Мастерсом.
ИБ: Они замечательные поэты. Но у Мастерса его
"Антология реки Спун" - это скорее интересный ход, при-
ем. Это вторичное, вслед за Эдвином Арлингтоном Робин-
соном.
СВ: Робинсон тоже в этой антологии был, и я тогда
впервые с ним столкнулся.
ИБ: Переводы в этой антологии опять-таки не
очень-то хороши. Тот же Михаил Зенкевич, царство ему
небесное: в его стихах присутствует такой "мужествен-
ный" элемент - скорее тихоновский, нежели киплинговс-
кий. Если вообще говорить об этом, то в сознании русс-
кого читателя такого явления, как англоязычная поэзия,
не существует. Ему гораздо более близки литературы не-
мецкая и французская. Скажем, французская поэзия, с ее
традицией накрута, навала, традицией пафоса, экстренных
заявлений. Гюго, Бодлер (для меня это один поэт с раз-
ными именами): их цветастость - красноречивость - русс-
кому человеку понятна. В то время как англоязычная поэ-
тическая традиция, если попытаться определить ее в нем-
ногих словах (что является занятием абсолютно бездарным
и обреченным на провал) - это отстраненный поэтический
тон. Помню, еще в России меня поразила строчка из сти-
хотворения довольно посредственной американской поэтес-
сы Энн Секстон. Она стоит на мостике над ручьем и ви-
дит, что там плавают мелкие рыбки - "как серебряные
ложки", добавляет она. Это образ, который русскому поэ-
ту никогда бы не пришел в голову, потому что рыбки и
ложки в русском сознании сильно разнесены. И если русс-
кий поэт и стал бы совмещать одно с другим, то он силь-
но бы это подчеркнул.
СВ: Эпатажный образ в манере раннего Маяковско-
го...
ИБ: Если и не эпатажный, то, во всяком случае, об-
раз, требующий подчеркивания. Поэт посчитал бы его на-
ходкой и не замедлил бы употребить педаль. В то время
как у Секстон все это проскальзывает обиняком. Это ес-
тественно для английского глаза, он так натренирован.
По наблюдению, это слегка поднятые брови, да?
СВ: А байроновская традиция в русской литературе?
ИБ: Мое ощущение от русского Байрона - это ка-
кое-то невероятное многословие.
СВ: Разве оно не соответствует первоисточнику?
ИБ: Нет. Байрон - чрезвычайно остроумный господин,
а в русских переводах преобладает совершенно иной тон.
Да и вообще мы Байрона воспринимаем через призму Пушки-
на, поэтому Байрон для русского читателя гораздо более
континентален, чем любой другой английский стихотворец.
Когда я читал Байрона по-русски, эхо Пушкина было пос-
тоянно со мной. В лучшем смысле - это был Пушкин, в
худшем - Лермонтов. "Чайльд Гарольда" по-русски я вооб-
ще читать был не в состоянии из-за тяжеловесности пере-
вода. По-английски же я Байрона читаю с удовольствием.
И никаких аллюзий ни к Пушкину, ни к другим русским по-
этам у меня нет. Вообще англоязычную поэзию по-русски я
мог читать только тогда, когда не знал английского. Те-
перь же мне все труднее взглянуть на проблему взаимов-
лияний с русской перспективы. Когда я читаю англоязыч-
ный текст, то могу вспомнить, как он выглядит по-русс-
ки. Но в целом мой взгляд - уже изнутри англоязычной
поэзии.
СВ: Это обстоятельство и придает ему особый инте-
рес.
ИБ: Поэтому мне трудно разобраться, в чем дело...
Вот еще одно существенное отличие англоязычной поэзии:
стихотворение по-английски - это стихотворение преиму-
щественно с мужскими окончаниями. Поэтому Данте, предс-
тавляющийся возможным в русском переводе, по-английски
невозможен. В английском этих звуков нету. Самый сопли-
вый англоязычный поэт благодаря своим мужским окончани-
ям воспринимается русским слухом как голос сдержаннос-
ти, как голос если и не суровый, то полный достоинства.
СВ: Но если сосредоточиться на американской лите-
ратуре: разве ее наиболее крупные фигуры не представле-
ны адекватно в русских переводах?
ИБ: Если говорить о прозаиках, это, в общем, так.
Но ведь поэты, как правило, важнее прозаиков. И как ин-
дивидуумы, и как литература. Если говорить серьезно,
разница между прозой и изящной словесностью - это раз-
ница между пехотой и ВВС. По существу их операций. Да?
СВ: А Уолт Уитмен? Ведь он даже умудрился оказать
некоторое влияние на русскую поэзию...
ИБ: Все знают, что такое Уитмен, но в переводах
Бальмонта или хуже того - Корнея Чуковского (царство им
обоим, между прочим, небесное). Притом с поэзией Уитме-
на в России происходит нынче странная штука. Что сдела-
ло возможным уитменовский стих? На чем он зиждится? На
библейском стихе, на пуританской Библии. То есть сегод-
ня русский читатель мог бы Уитмена оценить в гораздо
большей степени, если бы...
СВ: Он лучше знал Библию...
ИБ: Да, если Библия была бы в России более обиход-
ной. Потому что длина уитменовского стиха, его каденция
держится на библейской интонации. Точно так же, как
другой полюс американской поэзии - Эмили Дикинсон -
держится на Псалтири. И вот парадокс: Уитмен в России
известен, Дикинсон - неизвестна. Хотя ее-то было бы го-
раздо более естественным перевести.
СВ: После того, как в 1964 году вас арестовали и
судили, вы были сосланы работать батраком в северную
деревню. Этот опыт облегчил вам понимание реалий "фер-
мерской" поэзии Фроста?
ИБ: Вообще-то жизнь на Севере мне ничего не дала.
В том смысле, в каком природа дала нечто Фросту. Тот
символический ряд, который природа предложила Фросту,
был им целиком употреблен. Глубже взглянуть на эти ве-
щи, чем он, почти и невозможно. Но на Севере мне было
легче самому себя отождествлять с Фростом. Вообще, в
Союзе я три года прожил в сильной степени под знаком
Фроста. Сначала переводы Сергеева, потом с ним знакомс-
тво, потом книжка Фроста по-русски. Потом меня посади-
ли. В ту пору я был, видимо, более восприимчив, чем се-
годня. Фрост на меня произвел впечатление невероятное.
Сколько я себя помню, только несколько поэтов показа-
лись мне столь кардинально отличными от всех прочих,
показались столь уникальными душами. Это - Фрост, Цве-
таева, Кавафис и Оден. Конечно, есть и другие замеча-
тельные поэты, но по уникальности душ - вот эти четве-
ро. Это и есть то, что ты ищешь в поэзии.
СВ: Фрост, Цветаева, Кавафис и Оден составляют до-
вольно странную компанию.
ИБ: Безусловно, они чрезвычайно разнообразны. Если
смотреть на них с русской колокольни, то Фрост ближе к
Кавафису.
СВ: А если сопоставить Цветаеву с Кавафисом?
ИБ: Это невозможно, конечно. А вот Цветаеву с
Фростом - можно, их сближает общая концепция ужаса. Де-
ло в том, что Фрост - поэт пугающий, поэт экзистенци-
ального ужаса. Причем ужаса чрезвычайно сдержанного, о
чем мы уже говорили. Ужас у Фроста - заявленный, а не
размазанный. Это не романтизм и не его современное ди-
тя, экспрессионизм. Фрост - поэт ужаса или страха. Это
не трагедийный и не драматический поэт. Потому что тра-
гедия - это то, что называется fait accompli. Это кон-
ченое дело. Да? В то время как ужас или страх всегда
имеют дело с предположением, с воображением, если угод-
но. С тем, что еще только может произойти.
СВ: А некоторые стихи Мандельштама тридцатых го-
дов? "Мы с тобой на кухне посидим. / Сладко пахнет бе-
лый керосин"...
ИБ: Относительно ужаса - это совершенно верно. Но
вообще-то Фроста и Мандельштама сравнивать ни в коем
случае нельзя. Опять же, стихи Мандельштама куда более
урбанистичны. Затем - это все-таки песнь. И, наконец, у
Мандельштама это открытый текст, крик: "Петербург! Я
еще не хочу умирать..." Или это: "Еще не умер ты, еще
ты не один, / Покуда с нищенкой-подругой / Ты наслажда-
ешься величием равнин / И мглой, и холодом, и вьюгой".
СВ: Увы, по-английски это звучит безвкусно.
ИБ: Вы знаете, дело даже не в безвкусице. У Фроста
это выглядит так: "Забор хороший у соседей добрых". То
есть это заявление, начиненное неразрешившимся ужасом.
Мы вновь имеем дело с недоговоренностью английского
языка, но эта недоговоренность как бы напрямик служит
своей собственной цели. Дистанция между тем, что должно
было бы сказать, и тем, что в действительности сказано,
сведена до минимума. Но этот минимум выражен в чрезвы-
чайно сдержанной форме. Кстати, если отвлечься от прие-
мов и цели, то можно обнаружить сходство Фроста с "Ма-
ленькими трагедиями" Пушкина.
СВ: Неожиданное сопоставление...
ИБ: На мой взгляд, у Фроста наиболее интересны его
повествовательные стихотворения, написанные между 1911
и 1926 годами. И главная сила повествования Фроста - не
столько описание, сколько диалог. Как правило, действие
у Фроста происходит в четырех стенах. Два человека го-
ворят между собой (и весь ужас в том, чего они друг
другу не говорят!). Диалог Фроста включает все необхо-
димые авторские ремарки, все сценические указания. Опи-
саны декорация, движения. Это трагедия в греческом
смысле, почти балет. Фрост был человеком чрезвычайно
образованным.