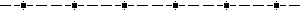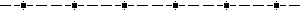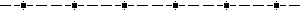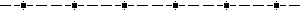Письмо Горацию
Славен метрический стих, что не терпит
поспешных ответов,
Думать велит, от оков "я" избавленье несет.
У. Х. Оден
Мой дорогой Гораций,
Если рассказ Светония о том, что ты увешивал стены
своей спальни зеркалами, чтобы любоваться соитием под
разными углами, -- правдив, ты можешь счесть это письмо
несколько скучным. С другой стороны, тебя может позаба-
вить, что оно пришло к тебе из части света, о существо-
вании которой ты даже не подозревал, и к тому же спустя
две тысячи лет после твоей смерти. Не правда ли, непло-
хо для отражения?
Тебе было почти пятьдесят семь, если не ошибаюсь,
когда ты умер в 8 году до Р. Х., хотя ты не знал ни са-
мого Х., ни наступающего нового тысячелетия. Что до ме-
ня, мне сейчас пятьдесят четыре; моему тысячелетию тоже
осталось всего несколько лет. Какой бы новый порядок
вещей будущее ни имело в запасе, я также ничего из него
не предвижу. Так что мы можем поговорить, я полагаю,
как мужчина с мужчиной, Гораций. И я тоже могу начать с
рассказа в интимном роде.
Прошлой ночью, лежа в постели, я перечитывал перед
сном твои "Оды" и наткнулся на обращение к твоему соб-
рату по перу Руфу Валгию, в котором ты пытаешься убе-
дить его не горевать столь сильно о потере сына (по
мнению одних) или возлюбленного (по мнению других). На
протяжении нескольких строф ты приводишь примеры, гово-
ря ему, что такой-то потерял одного, а такой-то друго-
го, и затем ты предлагаешь Руфу, чтобы он, в качестве
самотерапии, занялся восхвалением новых триумфов Авгус-
та. Ты упоминаешь несколько недавних побед, и среди них
отторжение простора у скифов.
На самом деле там, вероятно, были гелоны; но это
неважно. Странно, я не замечал этой оды раньше. Мой на-
род -- ну, скажем так -- не упоминается слишком часто
великими поэтами римской античности. Греками -- другое
дело, поскольку они довольно много общались с нами. Но
даже у них мы не слишком в чести. Несколько отрывков у
Гомера (из которых Страбон впоследствии изготовил та-
кое!), десяток строк у Эсхила, немногим богаче у Еври-
пида. В основном, упоминания мимоходом; но кочевники и
не заслуживают большего. Из римлян, я раньше думал,
только бедный Овидий обращал на нас какое-то внимание;
но ведь у него не было выбора. Практически ничего о нас
нет у Вергилия, не говоря уже о Катулле или Проперции,
не говоря уже о Лукреции. А теперь, смотри-ка, крошка с
твоего стола.
Возможно, сказал я себе, если нашего автора как
следует поскрести, то я обнаружу упоминание той части
света, где нахожусь сейчас. Кто знает, может, он обла-
дал воображением, предвидением. При таком роде занятий
это бывает.
Но ты никогда не был провидцем. Переменчивым, неп-
редсказуемым -- да, но не провидцем. Посоветовать уби-
тому горем человеку сменить тональность и петь победы
цезаря -- это ты мог; но вообразить другую землю и дру-
гое небо -- для этого следует обратиться, я полагаю, к
Овидию. Или ждать еще тысячелетие. В целом же вы, ла-
тинские поэты, были сильнее в размышлении и рассужде-
нии, нежели в выдумке. Я полагаю потому, что империя и
так была достаточно обширной, чтобы еще напрягать вооб-
ражение.
Итак, я лежал поперек моей неубранной постели в
этом невообразимом (для тебя) месте холодной февраль-
ской ночью спустя почти две тысячи лет. Единственное,
что у меня с тобой было общего, я думаю, -- широта и,
конечно, томик твоих стихов в русских переводах. В то
время когда ты все это писал, у нас, видишь ли, не было
языка. Мы даже не были нами; мы были гелоны, геты, бу-
дины и т.д.: просто пузырьки в резервуаре генов нашего
будущего. Так что две тысячи лет в конечном счете не
прошли даром. Теперь мы можем читать тебя на нашем
чрезвычайно флективном языке с его знаменитым гуттапер-
чевым синтаксисом, дивно подходящим для перевода тебе
подобных.
Однако я пишу тебе это на языке, с чьим алфавитом
ты знаком лучше. Гораздо лучше, следовало бы добавить,
чем я. Кириллица лишь озадачила бы тебя еще сильнее,
хотя ты, без сомнения, узнал бы греческие литеры. Ко-
нечно, расстояние между нами слишком велико, чтобы бес-
покоиться из-за его увеличения -- или пытаться его сок-
ратить. Но вид латинских букв, может, послужит тебе не-
которым утешением, даже если комбинации их тебя озада-
чат.
Итак, я лежал на кровати с томиком твоих "Песен".
Отопление было включено, но холодная ночь снаружи его
одолевала. Живу я здесь в маленьком двухэтажном дере-
вянном доме, и моя спальня -- наверху. Глядя на пото-
лок, я почти видел, как просачивается через мансардную
крышу холод: нечто вроде антитумана. Никаких зеркал. В
определенном возрасте не питаешь интереса к собственно-
му отражению, будь ты в обществе или без, особенно если
без. Вот почему я сомневаюсь, что Светоний говорит
правду. Хотя, я думаю, ты был вполне сангвиник во всех
отношениях. Твоя знаменитая уравновешенность! Вдобавок,
хотя Рим находится на той же широте, в нем никогда не
бывает так холодно. Пару тысяч лет тому назад климат,
возможно, был иным; хотя твои строчки не свидетельству-
ют об этом. Как бы то ни было, я засыпал.
И я вспомнил красавицу, которую когда-то знал в
твоем городе. Она жила в Субуре, в квартирке, изобилую-
щей цветочными горшками, но благоухающей ветхими книж-
ками, заполонившими ее. Книжки были повсюду, но главным
образом на полках, доходящих до потолка (потолок, надо
сказать, был низкий). Большинство книг принадлежало не
ей, а соседке напротив, о которой я много слышал, хотя
никогда ее не встречал. Соседкой была старуха, вдова,
родившаяся и проведшая всю свою жизнь в Ливии, в Лептис
Магна. Она была итальянкой, но еврейского происхождения
-- а может, евреем был ее муж. Так или иначе, когда он
умер и в Ливии стало припекать, старая леди продала
дом, упаковала вещи и приехала в Рим. Ее квартира была,
вероятно, еще меньше, чем квартира моей нежной подруги,
и полным полна отложений, скопившихся за жизнь. Посему
две женщины, старая и молодая, заключили соглашение,
после которого спальня последней стала напоминать нас-
тоящий букинистический магазин. С этим впечатлением не
вязалось не столько присутствие кровати, сколько боль-
шое зеркало в тяжелой раме, несколько ненадежно присло-
ненное к шаткой книжной полке прямо против кровати и
под таким углом, что всякий раз, когда я или моя нежная
подруга хотели подражать тебе, нам приходилось отчаянно
вытягивать и выворачивать шеи. В противном случае в
зеркале отражались лишь книги. На рассвете оно могло
вызвать у вас жутковатое ощущение собственной прозрач-
ности.
Все это случилось много лет назад, хотя что-то по-
буждает меня пробормотать -- столетия тому назад. В
эмоциональном смысле это было бы верно. В самом деле,
расстояние между этой квартирой в Субуре и моим тепе-
решним обиталищем психологически больше, чем расстояние
между тобой и мною. То есть в обоих случаях "тысячеле-
тия" неприменимы. Или для меня твоя реальность практи-
чески больше реальности моего личного воспоминания.
Кроме того, название Лептис Магна мешается и с тем и с
другим. Я всегда хотел побывать там; в сущности, это
стало чем-то вроде навязчивой идеи с тех пор, как я за-
частил в твой город и на средиземноморские берега вооб-
ще. Отчасти потому, что напольная мозаика в одной та-
мошней бане содержит единственное дошедшее до нас изоб-
ражение Вергилия, и к тому же сделанное при его жизни!
По крайней мере, так мне рассказывали; впрочем, возмож-
но, это в Тунисе. Как бы там ни было, в Африке. Когда
человеку холодно, он вспоминает Африку. И когда жарко
-- тоже.
Дорого бы я дал, чтоб узнать, как выглядели вы
четверо! Чтобы сопоставить лицо с лирикой, не говоря уж
об эпосе. Я бы согласился на мозаику, хотя предпочел бы
фреску. На худой конец, я смирился бы и с мрамором, ес-
ли бы не его крайняя обобщенность -- в мраморе все бе-
локуры -- и крайняя сомнительность. Как бы то ни было,
ты меньшая из моих забот, то есть тебя легче всего во-
образить. Если то, что рассказывает нам Светоний о тво-
ей внешности, действительно правда -- хоть что-то в его
рассказе должно же быть правдой! -- ты был невысок и
тучен; и тогда ты, вероятней всего, походил на Эудженио
Монтале или на Чарли Чаплина времен "Короля в Нью-Йор-
ке". Кого я никак не могу представить -- это Овидия.
Даже Проперция легче: тощий, болезненный, одержимый
своей столь же тощей и болезненной рыженькой, он видит-
ся яснее. Скажем, помесь Уильяма Пауэлла и Збигнева Ци-
бульского. Не то с Овидием, хотя он прожил дольше вас
всех. Увы, не в тех краях, где ваяли статуи. Или выкла-
дывали мозаики. Или утруждали себя фресками. А если
что-то в этом роде было сделано до того, как твой воз-
любленный Август вышвырнул его из Рима, то все, несом-
ненно, было уничтожено. Чтобы не оскорблять изысканных
вкусов. А впоследствии -- ну, впоследствии сгодился бы
любой кусок мрамора. Как мы говаривали в северной Ски-
фии -- Гиперборея по-вашему, -- бумага все стерпит, а в
твои дни мрамор был чем-то вроде бумаги.
Ты думаешь, я мелю вздор, но я просто пытаюсь
воспроизвести ход мыслей, который привел меня прошлой
ночью к замечательному живописному пункту назначения.
Конечно, ход этот был извилист; но не слишком. Ибо так
или иначе я всегда думал о вас четверых, особенно об
Овидии. О Публии Овидии Назоне. И не по причине ка-
кой-то особенной близости. Как бы сходно ни выглядели
время от времени наши обстоятельства в глазах наблюда-
теля, я не создам "Метаморфоз". Кроме того, двадцать
два года в этих краях не могут тягаться с десятью в
Сарматии. Не говоря уж о том, что я видел крушение мое-
го Третьего Рима. Я не лишен тщеславия, но оно имеет
пределы. Сейчас, очерченные возрастом, они более ощути-
мы, чем раньше. Но даже когда щенком я был вышвырнут из
дома к Полярному кругу, я никогда не воображал себя его
двойником. Хотя тогда моя империя действительно каза-
лась вечной и можно было скитаться по льду наших много-
численных дельт всю зиму.
Нет, я никогда не мог представить лицо Назона.
Иногда я вижу его сыгранным Джеймсом Мейсоном -- орехо-
вые глаза, увлажненные горем и озорством; хотя в другое
время это льдистый взгляд Пола Ньюмена. Впрочем, Назон
был чрезвычайно многоликим, и, без сомнения, над его
ларами царил Янус. Вы ладили между собой, или разница в
возрасте была слишком велика? Все-таки двадцать два го-
да. Ты, должно быть, его знал -- хотя бы через Мецена-
та. Или ты считал его слишком легкомысленным, предвидел
его судьбу? Была ли между вами вражда? Он, должно быть,
считал тебя до смешного лояльным, записным консервато-
ром, какие получаются из самостоятельно пробившихся лю-
дей. А для тебя он был просто сопляк, аристократишко,
привилегированный от рождения, и т.д. Не то что вы с
Вергилием Энтони Перкинса, можно сказать, пролетарские
мальчики с разницей лишь в пять лет. Или, может, я
слишком начитался Карла Маркса и насмотрелся кино, Го-
раций? Возможно. Но подожди, здесь кое-что еще. В этом
замешаны также доктор Фрейд, ибо что за толкование сно-
видений, если оно не пропущено через старого доброго
Зигги? Ибо к старому доброму подсознанию и вел меня
прошлой ночью упомянутый ход размышлений, причем до-
вольно быстро.
В любом случае, Назон был более велик, чем вы оба,
-- ну, по крайней мере, на мой взгляд. Метрически, ко-
нечно, более монотонный; но таков и Вергилий. Таков же
и Проперций, при всем накале его страстей. Как бы то ни
было, моя латынь паршива; посему я читаю вас всех
по-русски. Этот язык справляется с твоим асклепиадовым
стихом гораздо убедительнее, чем язык, на котором я это
пишу, несмотря на то что алфавит последнего тебе при-
вычней. Последний просто не может управиться с дактиля-
ми. Которые были твоим коньком. Вернее, коньком латыни.
И твои "Песни", конечно, тому подтверждение. Так что я
вынужден судить об этом деле, доверясь воображению.
(Вот аргумент в твою защиту, если ты в ней нуждаешься.)
А воображением Назон вас всех превосходит.
Все равно я не могу воссоздать ваши лица, особенно
его; даже во сне. Странно, не правда ли, не иметь ника-
кого представления о внешности тех, кого вроде бы зна-
ешь очень близко? Ибо ни в чем так не раскрывается че-
ловек, как в использовании ямбов и трохеев. Тогда как
те, кто не пользуется размерами, -- всегда закрытая
книга, даже если вы знаете их вдоль и поперек. Как это
сказал Джон Клэр? "Даже те, кого я знал лучше всего, /
незнакомы -- нет! незнакомей, чем остальные". Во всяком
случае метрически, Флакк, среди них ты самый разнооб-
разный. Неудивительно, что этот спотыкающийся и неров-
ный ход моих мыслей взял тебя в поводыри, оставляя
собственное тысячелетие и направляясь в твое, непривыч-
ное, надо полагать, к электричеству. Поэтому я путе-
шествую в темноте.
Мало что наскучивает больше чужих снов, если толь-
ко это не кошмары или густая эротика. Мой сон, Флакк,
относился к последней категории. Я находился в какой-то
скудно обставленной спальне, в постели, и сидел рядом с
похожим на морскую змею, хотя чрезвычайно пыльным, ра-
диатором. Стены были абсолютно голые, но я не сомневал-
ся, что нахожусь в Риме. А если точнее -- в Субуре, в
квартире моей хорошенькой подружки былых времен. Только
ее там не было. Не было также ни книжек, ни зеркала. Но
коричневые цветочные горшки стояли нетронутыми, испус-
кая не столько растительный аромат, сколько запах собс-
твенной глины: вся сцена была выполнена в терракоте и
сепии. Вот почему я понял, что я в Риме.
Все было окрашено терракотой и сепией. Даже смятые
простыни. Даже лиф моей подруги. Даже те угадываемые
части ее анатомии, которые не были тронуты загаром, ду-
маю, также и в твое время. Все было положительно одноц-
ветным; я чувствовал, что, будь я способен увидеть са-
мого себя, я тоже был бы в сепиевых тонах. Однако зер-
кало отсутствовало. Вообразите греческие вазы с их мно-
гофигурным опоясывающим рисунком -- и вы получите текс-
туру.
Это была самая энергичная встреча такого рода, в
какой я когда-либо участвовал, будь то в реальной жизни
или в моем воображении. Однако следовало бы уже обой-
тись без таких разграничений, принимая в расчет харак-
тер этого письма. То есть на меня произвела большое
впечатление моя стойкость, равно как и мое вожделение.
Учитывая мой возраст, не говоря уже о состоянии моего
сердца, этих разграничений стоит держаться, будь то сон
или нет. Признаться, предмет моей любви -- предмет, с
тех пор давно освоенный, -- был заметно моложе меня, но
нельзя сказать, чтобы нас разделяла пропасть. Телу, о
котором идет речь, по-видимому, было под сорок -- кост-
лявое, но упругое и чрезвычайно гибкое. Однако больше
всего в нем поражало его колоссальное проворство, цели-
ком подчиненное единственной задаче: избежать баналь-
ности постели. Если свести все предприятие в одну ка-
мею, то верхняя часть описываемого тела была бы погру-
жена в узенький, с фут шириной, зазор между кроватью и
радиатором, незагорелый круп, и сверху я, плывущий над
краем матраса. Кружевная кайма лифа служила бы пеной.
Во время всего этого я не видел ее лица. По причи-
нам, упомянутым выше. Все, что я знал о ней -- что она
из Лептис Магна, хотя понятия не имею, как я это выяс-
нил. У этой встречи не было звукового оформления, ка-
жется, мы не обменялись даже парой слов. Если мы гово-
рили, то до того, как я стал это сознавать, и слова,
вероятно, были на латыни: у меня смутное ощущение како-
го-то препятствия в нашем общении. Однако я все время,
по-видимому, знал или как-то сумел догадаться заранее,
что в складе ее лица было что-то от Ингрид Тулин. Воз-
можно, я заметил это, когда правая рука моей подруги,
свесившейся с кровати, то и дело в неуклюжем движении
назад нащупывала теплые кольца пыльного радиатора.
Когда я проснулся на следующее -- то есть на это
-- утро, в моей спальне было ужасно холодно. Отврати-
тельный мутный дневной свет проникал через оба окна как
некое подобие пыли. Не исключено, что пыль и есть оста-
ток дневного света. Я тут же закрыл глаза; но комната в
Субуре исчезла. Единственное свидетельство случившегося
замешкалось в темноте под одеялом, куда дневной свет не
мог проникнуть, но замешкалось, очевидно, ненадолго.
Рядом со мной, раскрытая на середине, лежала твоя кни-
га.
Без сомнения, именно тебя я должен благодарить за
этот сон, Флакк. Рука, судорожно пытающаяся сжать ради-
атор, могла бы, конечно, означать вытягивание и вывора-
чивание шеи во время оно, когда моя хорошенькая подруж-
ка или я пытались себя увидеть в том зеркале с позоло-
ченной рамой. Но я сомневаюсь в этом -- два торса не
могут сжаться до одной руки; ни одно подсознание не яв-
ляется столь экономным. Нет, я полагаю, что эта рука
как-то вторила общему движению твоего стиха, его полной
непредсказуемости и вместе с тем неизбежному растяжению
-- нет! напряжению -- твоего синтаксиса при переводе. В
результате практически каждая твоя строчка удивительна.
Хотя это не комплимент; просто констатация. При нашем
роде занятий уловки, естественно, de rigueur. И стан-
дартная пропорция -- примерно одно маленькое чудо на
строфу. Если поэт исключительно хорош, он может сотво-
рить два. У тебя практически каждая строчка -- приклю-
чение; иногда несколько в одной строчке. Конечно, неко-
торыми из них ты обязан переводу. Но я подозреваю, что
на твоей родной латыни твои читатели тоже редко угады-
вали, каким будет следующее слово. Это подобно постоян-
ному хождению по битому стеклу или чему-то вроде: мен-
тальному -- оральному? -- варианту битого стекла, прих-
рамывание и прыжок. Или подобно этой руке, сжимающей
радиатор: было что-то явно логаэдическое в ее выбрасы-
ваниях и отдергиваниях. Но ведь рядом со мной были твои
"Песни".
Будь это "Эподы" или "Послания", не говоря уж о
"Сатирах" или даже "Искусстве поэзии", сон, я уверен,
был бы иным. То есть он, возможно, был бы столь же
плотским, но отнюдь не столь памятным. Ибо только в
"Песнях" ты метрически предприимчив, Флакк. Остальное
-- практически все дистихи; остальное -- гудбай Аскле-
пиаду и Сапфо и хеллоу честным гекзаметрам. Остальное
-- не та судорожная рука, но сам радиатор с его ритмич-
ными кольцами, напоминающими не что иное, как элегичес-
кие дистихи. Поставьте этот радиатор на попа, и он бу-
дет выглядеть как что угодно из Вергилия. Или из Про-
перция. Или из Овидия. Или из тебя, за исключением тво-
их "Песен".
Он будет выглядеть как любая страница латинской
поэзии. Он будет подобен -- употребляя ненавистное сло-
во -- тексту.
А что, подумал я, если это и была латинская поэ-
зия? И что, если та рука просто пыталась перевернуть
страницу? А мои усилия vis-a-vis окрашенного сепией
корпуса означали мое чтение корпуса латинской поэзии?
Хотя бы потому, что я все еще -- даже во сне! -- не мог
разобрать ее лица. Что до сходства с Ингрид Тулин, ко-
торое я уловил, когда она делала усилие перевернуть
страницу, это, весьма вероятно, было связано с Вергили-
ем в исполнении Тони Перкинса. Потому что у них с Инг-
рид Тулин несколько схожие скулы; и потому также, что
Вергилия я читал больше всех. Поскольку он сочинил
больше строчек, чем кто бы то ни было. Правда, я никог-
да не подсчитывал, но это представляется несомненным,
учитывая "Энеиду". Хотя лично я гораздо больше люблю
его "Буколики" и "Георгики", нежели его эпос.
Почему, я скажу тебе позже. Суть вопроса, однако,
состоит в том, что я действительно не знаю, заметил ли
я сперва эти скулы, а затем выяснил, что моя окрашенная
сепией подруга происходила из Лептис Магна, или наобо-
рот. Но незадолго до этого я видел репродукцию этого
мозаичного портрета на полу. И я решил, что он был из
Лептис Магна. Не могу вспомнить почему и где. Возможно,
на фронтисписе какого-то русского издания? Или, может,
это была открытка. Главное, он был из Лептис Магна и
сделан при жизни Вергилия или вскоре после того. А по-
сему то, что я увидел во сне, было отчасти знакомым
зрелищем; само ощущение было не столько зрительным,
сколько ощущением узнавания. Несмотря на подмышечную
впадину и грудь, круглящуюся под лифом.
Или именно поэтому: ибо на латыни поэзия женского
рода. Это хорошо для аллегории, а что хорошо для алле-
гории -- хорошо для подсознания. И если за телом моей
подруги стоял -- пусть и лежа -- корпус латинской поэ-
зии, ее высокие скулы могли бы с тем же успехом напоми-
нать скулы Вергилия независимо от его собственных сек-
суальных предпочтений, хотя бы потому, что тело в моем
сне было из Лептис Магна. Во-первых, потому что Лептис
Магна в руинах, а каждое предприятие в спальне с его
простынями, подушками и самими распростертыми и переп-
летенными конечностями напоминает руину. Во-вторых, по-
тому что само название "Лептис Магна", будучи женского
рода, подобно латинской поэзии, не говоря уж о том,
что, как я полагаю, оно значит буквально. То есть вели-
кая лепта. Впрочем, моя латынь паршива. Но как бы там
ни было, чем в конечном счете является латинская поэ-
зия, как не великой лептой? Разве что мое чтение -- бе-
зусловно, скажешь ты -- повергает ее в руины. Так отсю-
да этот сон.
Давай избегать мутной воды, Флакк; не будем обре-
менять друг друга выяснением, может ли сон быть взаим-
ным. Обнадежь меня, по крайней мере, что ты не отне-
сешься подобным образом к моей собственной писанине,
если ты когда-нибудь с ней познакомишься. Не правда ли,
ты не станешь каламбурить о pen'e и penis'e? И почему
бы тебе не познакомиться с ней безотносительно к этому
письму. Будь то взаимность или нет, я не вижу причины,
почему бы тебе, лезущему в мои сны, не сделать следую-
щий шаг и не вмешаться в мою реальность.
Ты и так уже вмешиваешься, и это письмо тому подт-
верждение. Но помимо этого, ты прекрасно знаешь, что я
тебе, так сказать, уже писал. Поскольку все, что я на-
писал, технически адресовано тебе: тебе лично, равно
как и остальным из вас. Ибо, когда пишутся стихи, бли-
жайшая аудитория -- не современники, не говоря уж о по-
томках, но предшественники. Те, кто дал язык, те, кто
дал формы. По правде говоря, ты знаешь это гораздо луч-
ше меня. Кто написал эти гекзаметры, асклепиадовы, ал-
кеевы и сапфические строфы, и кто были их адресаты? Це-
зарь? Меценат? Руф? Вар? Лидия и Гликера? Черта с два
они знали или беспокоились о трохеях и дактилях! И не
меня ты имел в виду. Нет, ты обращался к Асклепиаду, к
Алкею и Сапфо, к самому Гомеру. Ты хотел, чтобы тебя
прежде всего оценили они. Ибо где Цезарь? Очевидно, во
дворце или крушит скифов. А Меценат у себя на вилле.
Равно как Руф и Вар. А Лидия с клиентом, а Гликеры нет
в городе. Тогда как твои возлюбленные греки прямо
здесь, у тебя в голове, или, лучше сказать, на устах,
ибо ты, несомненно, знал их наизусть. Они были твоей
лучшей аудиторией, поскольку ты в любой момент мог их
вызвать. Именно на них ты старался произвести впечатле-
ние. Невзирая на иностранный язык. В сущности, на них
легче произвести впечатление на латыни: по-гречески ты
не имел бы широты родного языка. И они отвечали тебе.
Они говорили: "Да, это впечатляет". Вот почему твои
строчки так искривлены анжамбманами и эпитетами, вот
почему твой довод всегда так непредсказуем. Вот почему
ты советуешь убитому горем приятелю превозносить триум-
фы Августа.
Если ты мог делать это для них, почему я не могу
делать это для тебя? Различие в языке, по крайней мере,
налицо, так что одно условие соблюдено. Так или иначе,
я отвечал тебе, особенно когда использовал ямбические
триметры. А теперь я продолжаю это письмом. Кто знает,
может, я еще вызову тебя сюда, может, ты еще материали-
зуешься в конце концов даже отчетливее, чем в моих сти-
хах. Насколько мне известно, логаэдические размеры с
дактилями побивают любой старый спиритический сеанс в
способности вызывать духов. В нашем деле вещи такого
рода называются стилизацией. А раз ритм классики входит
в наш организм, ее дух входит следом. А ты классик,
Флакк, не так ли, и по многим параметрам, что само по
себе достаточно сложно.
И в конечном счете с кем еще из живущих в этом ми-
ре можно говорить без отвращения, особенно если ты с
младых ногтей склонен к мизантропии. Именно по этой
причине, а не из тщеславия, я надеюсь, что ты познако-
мишься с моими ямбами и трохеями как-нибудь на свой
загробный манер. Случались дела и постраннее, и мое пе-
ро потрудилось, по крайней мере, в этой области. Конеч-
но, я бы охотнее поговорил с Назоном или Проперцием, но
с тобой у меня больше общего метрически. Они были при-
вержены к элегическим дистихам и гекзаметрам; я редко
ими пользуюсь. Так что разговор пойдет у нас тобой. Для
любого это могло бы прозвучать самонадеянно. Но не для
тебя. "Все литераторы имеют / Воображаемого друга", --
говорит Оден. Почему я должен быть исключением?
На самый крайний случай я могу усесться перед зер-
калом и обращаться к нему. Уже отчасти замена, хотя я
не думаю, что ты был похож на меня. Но когда доходит до
человеческой внешности, природа в конечном счете не
располагает большим выбором. Каков он? Пара глаз, рот,
нос, овал. При всем их многообразии через две тысячи
лет природа вынуждена повториться. И даже бог. Поэтому
я легко мог бы заявить, что это лицо в зеркале, по су-
ти, твое, что ты -- это я. Кто может проверить и каким
образом? Для фокусов с вызыванием духов это могло бы
сгодиться. Но боюсь, я зашел слишком далеко: я никогда
не напишу письма самому себе. Даже если б я и вправду
был твоим подобием. Так что оставайся без лица, Флакк,
оставайся невызванным. Так тебя может хватить еще на
два тысячелетия. В противном случае всякий раз, когда я
взбираюсь на женщину, она могла бы думать, что имеет
дело с Горацием. Ну, в каком-то смысле это так, будь то
во сне или наяву. Нигде время не рушится с такой лег-
костью, как в уме. Потому-то мы так и любим размышлять
об истории, не правда ли? Если я прав насчет природного
выбора, то выбор, предлагаемый историей, подобен окру-
жению себя зеркалами, как жизнь в борделе. Две тысячи
лет -- чего? По чьему исчислению, Флакк? Конечно, не с
метрической точки зрения. Тетраметры есть тетраметры,
неважно когда и неважно где. Будь то в греческом, латы-
ни, русском, английском. Также и дактили и анапесты. И
так далее. Так что две тысячи лет в каком смысле? Коль
скоро речь зашла о разрушении времени, наше ремесло,
боюсь, побивает историю и отдает довольно сильно геог-
рафией. Общее у Евтерпы и Урании то, что обе старше
Клио. Ты принимаешься отговаривать Руфа Валгия от его
затянувшегося горевания, напоминая о волнах mare Caspi-
um, даже они, пишешь ты, не вечно остаются ревущими. Се
означает, что ты знал об этом mare две тысячи лет назад
-- несомненно, от какого-нибудь греческого автора, пос-
кольку твой народ не разбрасывал свои перья так широко.
В чем, полагаю, и состоит главная привлекательность
этого mare для тебя как римского поэта. Экзотическое
название, и вдобавок подразумевающее самую отдаленную
точку вашего Pax Romana, если не всего известного мира.
К тому же название греческое (вообще-то, возможно, даже
персидское, но ты мог натолкнуться на него только
по-гречески). Однако главное в "Caspium" то, что слово
это дактилическое. Поэтому оно стоит в конце второй
строки, где устанавливается размер любого стихотворе-
ния. И ты утешаешь Руфа Асклепиадовой строфой.
Тогда как я -- я пересек этот Caspium раз или два.
Когда мне было не то восемнадцать, не то девятнадцать
или, может быть, двадцать. Так и хочется сказать, когда
ты в Афинах учился греческому языку. В мои дни расстоя-
ние между Каспием и Элладой, не говоря уж о Риме, было
в некотором смысле даже больше, чем две тысячи лет на-
зад; оно, откровенно говоря, было непреодолимо. Поэтому
мы не встретились. Само mare было гладкое и блестящее,
особенно у западных берегов. Не столько из-за благопри-
ятной близости к цивилизации, сколько из-за обширных
разливов нефти, обычных в этих краях. (Я мог бы ска-
зать, что это было реальное умасливание неспокойных
вод, но, боюсь, ты не поймешь этой отсылки.) Я лежал
плашмя на горячей верхней палубе грязного парохода, го-
лодный и без гроша в кармане, но тем не менее счастли-
вый, потому что я участвовал в географии. Когда всхо-
дишь на борт -- ты всегда участник. Прочти я к тому
времени твой стишок к Руфу, я бы сознавал, что я также
участвую в поэзии. В дактиле, а не в прояснениях гори-
зонта.
Но в те дни я не был особенным читателем. В те дни
я работал в Азии: лазал по горам и пересекал пустыни.
Главным образом в поисках урана. Ты не знаешь, что это
за штука, и я не буду надоедать тебе объяснением,
Флакк. Хотя "uranium" -- еще одно дактилическое слово.
Каково это -- узнавать слово, которое не можешь употре-
бить? Особенно -- для тебя -- греческое? Ужасно, пола-
гаю; как для меня твоя латынь. Возможно, если бы я мог
оперировать ею уверенно, я в самом деле сумел бы выз-
вать тебя. С другой стороны, возможно, и нет: я бы стал
для тебя лишь еще одним латинским автором, а это прямой
путь к зиянию.
Так или иначе, в те дни я не знал никого из вас,
за исключением -- если память не сыграла со мной шутки
-- Вергилия, то есть его эпоса. Я помню, он не слишком
мне понравился, отчасти потому, что на фоне гор и пус-
тынь немногие вещи сохраняли смысл; главным же образом
из-за довольно резкого запаха социального заказа, эпо-
сом этим издаваемого. В те дни наши ноздри были очень
чувствительны к такого рода вещам. К тому же я просто
не мог понять 99 процентов его экземпла, которые стано-
вились поперек дороги довольно часто. Чего ждать от во-
семнадцатилетнего гиперборейца? Сейчас я с этим справ-
ляюсь лучше, но на это ушла целая жизнь. Вообще-то, на
мой взгляд, вы все несколько переусердствовали с аллю-
зиями; часто они кажутся излишними. Хотя эвфонически
они, конечно -- особенно греческие, -- творят чудеса с
текстурой.
Что смутило меня, возможно, больше всего в "Энеи-
де", так это Анхизово пророчество задним числом -- ког-
да старик предсказывает то, что уже произошло. Здесь, я
думаю, твой друг несколько хватил. Я не возражаю против
самомнения, но у мертвых следует предполагать больше
воображения. Им надо бы знать больше, чем просто родос-
ловную Августа; в конце концов, они не оракулы. Что за
дурное употребление потрясающей, умопомрачительной идеи
о душах с правом на второе воплощение, которые пьют из
Леты, чтобы очиститься от предыдущих воспоминаний! Вы-
мостить ими дорогу во царствование нынешнего хозяина!
Ведь они могли бы стать христианами, карлами великими,
дидеротами, коммунистами, гегелями, нами! Те, кто при-
дут после, метисы и мутанты во многих отношениях! Вот
было бы настоящее пророчество, настоящий полет фанта-
зии. Вместо этого он перекраивает официальную летопись
и подает это как свежие новости. Начать с того, что
мертвые свободны от причинности. Знание, доступное им,
-- знание о времени -- всем времени. Это он мог бы по-
черпнуть у Лукреция; твой друг был ученый человек. К
тому же с потрясающим метафизическим инстинктом, насто-
ящим чутьем на духовную подоплеку вещей: его души го-
раздо менее телесны, чем у Данте. Сущие маны: газооб-
разные и неосязаемые. Есть искушение сказать, что его
схоластика здесь практически средневековая. Но это было
бы снижением. Потому что метафизически ваше будущее
оказалось гораздо менее образным, чем ваше греческое
прошлое. Ибо что такое вечная жизнь для души по сравне-
нию с перевоплощением? Что такое рай для нее после пи-
фагоровского обещания другого тела? Просто безработица.
Однако каковы бы ни были его источники: Пифагор, плато-
новский "Федр", его собственное воображение, -- он без
толку промотал все это ради родословной цезаря.
Конечно, эпос был его; он имел право делать с ним
что угодно. Но, откровенно говоря, я считаю это непрос-
тительным. Именно подобный недостаток воображения про-
ложил путь торжеству монотеизма. Один, полагаю, всегда
понятнее многих; а после этой гигантской толпы гречес-
ких и доморощенных богов и героев такого рода стремле-
ние к чему-то более понятному, более внятному было
практически неизбежно. Другими словами, несмотря на все
его широкие жесты, твой друг, дорогой Флакк, просто же-
лал метафизической надежности. А это, боюсь, явное про-
тиворечие; возможно, основная привлекательность полите-
изма в том, что он ничего подобного не имеет. Но, я по-
лагаю, место становилось слишком многолюдным, чтобы
позволить себе ненадежность любого рода. В первую оче-
редь поэтому твой друг пришпиливает все сказанное, ме-
тафизику и прочее к своему возлюбленному цезарю. Граж-
данские войны, я бы сказал, творят чудеса с духовной
ориентацией человека.
Но говорить с тобой так не имеет смысла. Вы все
любили Августа, не правда ли? Даже Назон, хотя его го-
раздо больше занимало любовное достояние цезаря -- ко-
торое, как всегда, вне подозрений, -- чем его террито-
риальные завоевания. Но в отличие от твоего друга, На-
зон любил женщин. Среди прочего именно это делает опи-
сание его внешности таким трудным, поэтому я колеблюсь
между Полом Ньюменом и Джеймсом Мейсоном. Женолюбом мо-
жет быть кто угодно: но это не значит, что ему следует
доверять больше, чем педофилу. И все же его версия то-
го, что происходило между Дидоной и Энеем, звучит нес-
колько убедительнее версии твоего друга. Назоновская
Дидона утверждает, что Эней покидает ее и Карфаген в
такой спешке -- помнишь, надвигался шторм, и Эней,
должно быть, достаточно натерпелся от штормов к тому
времени, носясь по бурным морям семь лет, -- не потому,
что внял зову своей божественной матери, а потому что
Дидона от него беременна. И поэтому она решается на са-
моубийство: ее репутация погублена. Как-никак она цари-
ца. Назон даже заставляет свою Дидону усомниться, дейс-
твительно ли Венера была матерью Энея, ибо она богиня
любви, а отъезд -- странный (хотя и не беспрецедентный)
способ проявить это чувство. Несомненно, Назон смеется
здесь над твоим другом. Несомненно, это изображение
Энея нелестно и, учитывая то обстоятельство, что леген-
да о троянских истоках Рима была официальной историчес-
кой доктриной с третьего века до Р. Х. и далее, совер-
шенно непатриотично. Равным образом несомненно и то,
что Вергилий никогда не читал "Героид" Назона; в про-
тивном случае его обхождение с Дидоной в подземном мире
было бы менее предосудительным. Ибо он просто упрятыва-
ет ее вместе с Сихеем, ее бывшим мужем, в какой-то от-
даленный закоулок Элизиума, где они прощают и утешают
друг друга. Пара пенсионеров в странноприимном доме.
Чтобы не путались у нашего героя под ногами. Чтобы на-
путствовать его пророчеством, избавив от боли. Потому
что Овидий создает лучшую копию. Во всяком случае, ни-
какого второго воплощения для души Дидоны.
Ты возразишь, что я применяю к нему стандарты, для
возникновения которых потребовалось два тысячелетия. Ты
хороший друг, Флакк, но это ахинея. Я сужу его по его
собственным стандартам, более очевидным, конечно, в его
"Буколиках" и "Георгиках", нежели в его эпосе. Не при-
кидывайся младенцем, у вас за плечами было, как мини-
мум, семь столетий поэзии. Пять по-гречески и два на
вашей родной латыни. Вспомни Еврипида, вспомни его "Ал-
кестиду": скандал между царем Адметом и его родителями
на свадьбе даст сто очков вперед любой сцене из Досто-
евского -- хотя ты можешь и не уловить эту отсылку. Ко-
торая означает, что он превосходит любой психологичес-
кий роман. То есть то, в чем мы преуспевали в Гипербо-
рее сто лет тому назад. Тут, видишь ли, мы сильны по
части страданий. С пророчеством -- дело другое. В об-
щем, две тысячи лет не прошли даром.
Нет, стандарты -- его, его "Георгик". Основанные
на Лукреции и Гесиоде. В этом роде занятий, Флакк, нет
больших секретов. Только маленькие и постыдные. В этом,
я должен добавить, и состоит их прелесть. И маленький и
постыдный секрет "Георгик" в том, что их автор в отли-
чие от Лукреция -- да и Гесиода -- не имел вседовлеющей
философии. По крайней мере, он не был ни атомистом, ни
эпикурейцем. В лучшем случае, я думаю, он надеялся, что
общая сумма его строк даст в итоге некое мировоззрение,
если он вообще об этом заботился. Ибо он был губкой, и
притом меланхолической. Для него лучшим -- если не
единственным -- способом понять мир было перечисление
его содержимого, и если он что-то упустил в "Буколиках"
и "Георгиках", то он наверстал это в своем эпосе. Он, в
сущности, был эпическим поэтом; эпическим реалистом,
если угодно, поскольку в численном отношении сама ре-
альность вполне эпична. Общим результатом воздействия
его творений на мои мыслительные способности всегда бы-
ло ощущение, что этот человек каталогизировал мир, и
довольно дотошно. Говорит ли он о злаках или звездах,
почвах или душах, делах и/или судьбах римлян, его круп-
ные планы столь же слепящи, сколь и цепляющи; но таковы
и сами вещи, дорогой Флакк, не правда ли? Нет, твой
друг не был ни атомистом, ни эпикурейцем; не был он
также и стоиком. Если он и верил в какой-нибудь закон,
это был закон возрождения жизни, и пчелы его "Георгик"
ничуть не лучше душ, взятых на заметку для второго воп-
лощения в "Энеиде".
Хотя, возможно, они лучше, и не столько потому,
что не жужжат "цезарь, цезарь", сколько из-за совершен-
но отстраненной тональности "Георгик". Возможно, именно
эти давние дни, которые я провел, бродя по горам и пус-
тыням Центральной Азии, делают эту тональность весьма
привлекательной. Тогда, я полагаю, именно безличность
пейзажа, в котором я, как правило, оказывался, запечат-
лелась в подкорке. Теперь, спустя целую жизнь, я мог бы
возложить ответственность за это пристрастие к монотон-
ности на человеческую перспективу. В основе обеих лежит
смутная догадка, что отстранение есть исход многих
сильных привязанностей. Или же нынешнее предпочтение
нейтрального голоса, столь типичного для дидактических
жанров в ваше время. Или и то и другое, что еще более
вероятно. И даже если безличное жужжание "Георгик" --
не что иное, как стилизация Лукреция -- а я сильно это
подозреваю, -- оно все же приятно. Вследствие его под-
разумеваемой объективности и явного сходства с монотон-
ным шумом дней и лет; со звуком, который издает время
при своем течении. Само отсутствие сюжета, отсутствие
персонажей в "Георгиках" отвечает, так сказать, взгляду
самого времени на любую экзистенциальную ситуацию. Я
даже помню, как сам я тогда думал, что, если бы время
имело собственное перо и решило сочинить стихотворение,
его строчки содержали бы листья, траву, землю, ветер,
овец, лошадей, деревья, коров, пчел. Но не нас. Макси-
мум наши души.
Так что стандарты действительно его. И эпос, нес-
мотря на все свои великолепия, а также вследствие их
есть снижение относительно этих стандартов. Просто-нап-
росто он имел сюжет для рассказа. А сюжет обязан вклю-
чать в себя нас. То есть тех, кого время устраняет. В
довершение всего сюжет не был его собственным. Нет, по-
давайте мне всякий день "Георгики". Вернее, мне следует
сказать, всякую ночь, учитывая мои нынешние привычки.
Хотя я должен признать, что даже в те стародавние дни,
когда со спермой дело обстояло куда лучше, гекзаметр
оставлял мои сны сухими и бессобытийными. Логаэдические
размеры, очевидно, обладают большей потенцией.
Две тысячи лет туда, две тысячи лет сюда! Только
представь себе, Флакк, если бы прошлой ночью я был не
один. И представь -- э-э -- преобразование этого сна в
реальность. Ну, полчеловечества, наверно, было бы зача-
то таким образом, да? Разве не ты был бы ответствен за
это, по крайней мере отчасти? Где были бы эти две тыся-
чи лет; и не пришлось бы мне назвать отпрыска Горацием?
Так что считай это письмо испачканной простыней, если
не собственным бастардом.
И кроме того, считай ту часть мира, из которой я
тебе пишу, окраиной Pax Romana, невзирая на океан и
расстояние. У нас тут есть все виды летательных приспо-
соблений, чтобы справиться с этим, не говоря уже о рес-
публике, которая вдобавок зиждется на "первом среди
равных". А тетраметры, как я сказал, по-прежнему тетра-
метры. Они одни могут справиться с любыми тысячелетия-
ми, не говоря о пространстве и подсознании. Я обретаюсь
здесь уже двадцать два года и не заметил никакой разни-
цы. По всей вероятности, здесь я и умру. Так что можешь
мне поверить на слово: тетраметры по-прежнему тетрамет-
ры, и таковы же триметры. И так далее.
Конечно, именно летательное приспособление доста-
вило меня сюда из Гипербореи двадцать два года тому на-
зад, хотя я столь же легко могу приписать этот перелет
моим рифмам и размерам. Разве что последние могли бы в
сумме дать еще большее расстояние между мною и доброй
старой Гипербореей, как твой дактилический Caspium уво-
дит от истинного размера Pax Romana. Приспособления --
особенно летательные -- только откладывают неизбежное:
вы выигрываете время, но время может дурачить прост-
ранство только до известного предела; в конце концов
пространство нагоняет. Что такое, в конечном счете, го-
ды? Что они могут измерить, кроме распада эпидермы,
мозгов? Тем не менее на днях я сидел здесь в кафе с со-
отечественником-гиперборейцем, и, пока мы болтали о на-
шем старом городе в дельте, мне внезапно пришло в голо-
ву, что, если бы двадцать два года назад я бросил в эту
дельту щепку, она могла бы -- учитывая преобладающие
ветра и течения -- пересечь океан и достичь к данному
моменту берегов, на которых я обретаюсь, чтобы стать
свидетельницей моего распада. Вот так пространство на-
гоняет время, мой дорогой Флакк; вот так человек поис-
тине выбывает из Гипербореи.