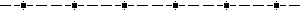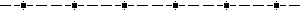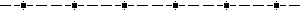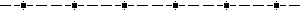Если долго сидеть на берегу реки, можно уви-
деть, как мимо проплывает труп твоего врага.
(Китайская пословица)
I
Учитывая бредовый характер нижеизложенного, изла-
гать все это следовало бы на каком угодно языке, но не
на английском. В моем случае, однако, единственным воз-
можным вариантом был бы русский, источником этого бреда
являющийся. Но кому нужна тавтология? Кроме того, пред-
положения, которые я здесь собираюсь выдвинуть, в свою
очередь, тоже достаточно бредовы, и будет поэтому лучше
их ограничить пределами языка, обладающего репутацией
аналитического. Кому охота, чтобы его прозрения были
приписаны причудам языка, изобилующего флексиями? Нико-
му. Кроме, разве, тех, кто постоянно спрашивает, на ка-
ком языке я думаю и вижу сны. Сны человеку [снятся],
отвечаю я, и мыслит он -- мыслями. Язык становится ре-
альностью, только когда решаешь этими вещами с кем-то
поделиться. От подобного ответа дело, конечно, не дви-
жется. Тем не менее, упрямлюсь я, поскольку английский
мне не родной и поскольку грамматикой его я владею не
на все сто, мысли мои могут оказаться сильно искорежен-
ными. Я, разумеется, надеюсь, что этого не случится; во
всяком случае, я всегда смогу отличить их от собствен-
ных снов. И хочешь верь, хочешь нет, дорогой читатель,
но как раз разглагольствования подобного рода, от кото-
рых обычно мало толку, подводят нас прямо к сути нашего
повествования. Ибо независимо от того, как именно его
автор решит свою дилемму и на каком языке остановит вы-
бор, сама эта способность к выбору вызывает у тебя по-
дозрение, а подозрения -- как раз то, о чем и пойдет
речь. "Да кто он такой, этот автор? -- возможно, спро-
сишь ты. -- К чему он клонит? Уж не претендует ли он на
амплуа бесплотного разума?" Но если бы, дорогой чита-
тель, только ты один был заинтригован личностью автора,
это было бы еще туда-сюда. Беда в том, что автор и сам
не знает, кто он такой, -- и по той же самой причине.
"Ты кто такой?" -- задает он себе вопрос на двух языках
и изумляется не меньше твоего, услышав, как его собс-
твенный голос бормочет в ответ нечто вроде "да почем я
знаю!" Помесь, дамы и господа! К вам обращается помесь.
Или кентавр.
II
Лето 1991 года. Август. Это, по крайней мере, на-
верняка. Элизабет Тейлор в восьмой раз собирается нап-
равиться к алтарю, в данном случае -- с простым парнем
польских кровей. В Милуоки задержали убийцу-рецидивиста
с людоедскими склонностями: у него в холодильнике поли-
ция нашла три сваренных вкрутую черепа. Великий Рос-
сийский Попрошайка болтается в Лондоне, и камеры тара-
щатся в его пустую, так сказать, миску. Чем больше пе-
ремен, тем больше всё по-прежнему. Как с погодой. И чем
сильнее все стремится остаться по-прежнему, тем крупней
перемены. Как с физиономией. Судя по этой самой погоде,
год вполне мог бы быть 1891-м. Вообще география (и в
частности, география европейская) оставляет истории ма-
ло вариантов. У страны, особенно крупной, их только
два. Либо она -- сильная, либо -- слабая. Рис. 1: Рос-
сия. Рис. 2: Германия. На протяжении почти целого сто-
летия первая из них стремилась быть большой и сильной
(какой ценой -- не важно). Теперь настал ее черед сла-
беть: к 2000-му году она окажется там же, где была в
1900-м, и примерно с тем же самым периметром. Там же
окажется и Германия. (Наконец-то до потомков Вотана
дошло, что, загнав соседей в долги, завоевываешь их на-
дежней и менее дорогостоящим способом, нежели военными
действиями.) Чем крупней перемены, тем более всё
по-прежнему. И все же время по погоде не определишь.
Физиономии в этом смысле лучше. Чем больше они старают-
ся сохраниться, тем больше меняются. Рис. 1: Мисс Тей-
лор. Рис. 2: Ваша собственная. Итак, лето 1991 года.
Август. Как отличить зеркало от ежедневной газеты?
III
Вот, кстати, и газетка со скромной штрейкбрехерс-
кой родословной. Точнее, это -- "литературка" по кличке
"Лондонское книжное обозрение", появившаяся на свет па-
ру лет назад, когда лондонская "Таймс" и ее "Литератур-
ное приложение" несколько месяцев бастовали. Чтобы не
лишать публику литературных новостей и прелестей либе-
рального мироощущения, было создано "ЛКО", которое, су-
дя по всему, имело успех. В конечном итоге выпуск
"Таймс" с ее "ЛПТ" возобновился, но "ЛКО" тоже осталось
на плаву -- что свидетельствует не столь о растущем
многообразии читательских вкусов, сколь о вялотекущем
популяционном взрыве. Поскольку я знаю, человек не вы-
писывает обе эти газеты, если только он не издатель. В
значительной степени это вопрос бюджета, но также и
амплитуды внимания, или -- просто лояльности. Я, напри-
мер, и сам не знаю, какой из этих трех факторов -- хо-
чется верить, что последний -- помешал мне купить све-
жий номер "ЛКО" в небольшом книжном магазине в Бель-
сайз-парке, куда мы с моей юной подругой забрели по до-
роге в кино. Бюджетные соображения, равно как и способ-
ность к концентрации (хотя в последнее время ее состоя-
ние меня сильно пугает) можно сразу исключить: новейший
выпуск "ЛКО" во всем своем великолепии красовался на
прилавке, а на обложке была изображена увеличенная в
размерах почтовая марка, явно отечественного происхож-
дения. С тех пор, как мне исполнилось 12 лет, подобные
вещи задерживают мой взор автоматически. На марке, в
свою очередь, был изображен человек в очках, с аккурат-
ным серебристым пробором. Сверху и снизу шел текст,
набранный модной нынче в этих краях кириллицей: "Со-
ветский разведчик Ким Филби (1912--1988)". Он был и
впрямь похож на Алека Гиннесса и, может, немножко на
Тревора Хауэрда. Я полез было в карман достать ассигна-
цию, поглядел в глаза дружелюбному юноше-продавцу и уже
настроил голосовые связки на цивильное "Будьте добры,
пожалуйста...", но потом повернулся на 90 градусов и
вышел на улицу. Я хочу подчеркнуть, что сделано это бы-
ло без излишней поспешности -- я успел кивнуть парню за
прилавком (мол, передумал) и тем же кивком пригласить
за собой свою юную подругу.
IV
Чтобы убить время до начала сеанса, мы зашли в
ближайшее кафе. "Что с тобой?" -- спросила моя юная бо-
евая подруга, когда мы сели за столик. "Ты выглядишь,
как...". Я ее не прерывал. Я знал, что со мной, и мне
было даже любопытно, на что это похоже со стороны. "Ты
выглядишь, как... Ты смотришь... вбок, -- продолжала
она неуверенно, запинаясь, поскольку английский для нее
тоже не родной. -- Точно ты не можешь больше прямо
смотреть на мир, не можешь смотреть миру в глаза, --
наконец выговорила она. -- Что-то в этом роде", -- до-
бавила она на всякий случай, чтобы застраховать себя от
ошибки. Ну да, подумал я, для других мы всегда реаль-
нее, чем для самих себя, и наоборот. Ибо зачем мы
здесь, если не как объект наблюдения? Если со стороны
"это" выглядит именно таким образом, значит, дела мои
-- как, вероятно, и большей части человечества -- не
так уж плохи. Ибо на самом деле меня сильно тошнило, к
горлу подступила волна рвоты. Но даже если реакция эта
была естественна, меня поразила ее интенсивность. "Что
случилось? -- переспросила моя юная подруга. -- Что с
тобой?" А теперь, дорогой читатель, после наших попыток
установить личность автора и время действия, теперь не
мешало бы выяснить, какова его аудитория. Помнишь ли
ты, дорогой читатель, кто такой был Ким Филби и что он
натворил? Если да, значит тебе под пятьдесят и значит,
в каком-то смысле, тебе уже пора выходить. Следователь-
но, все, что ты тут услышишь, окажется для тебя не
слишком существенным -- и еще менее утешительным. Игра
твоя сыграна, дальше ехать некуда; все это ничего уже
для тебя не изменит. С другой стороны, если ты никогда
не слышал про Кима Филби, значит тебе тридцать или око-
ло, вся жизнь впереди, и всё это -- древняя история, от
которой тебе ни пользы, ни радости -- разве что ты лю-
битель шпионских сюжетов. Ну и..? Ну и что же в связи с
этим делать автору? Тем более что до сих пор неизвест-
но, кто он такой. Может ли бесплотный разум рассчиты-
вать на реальную аудиторию? Я думаю, вряд ли, -- и еще
я думаю: наплевать!
V
В общем, мы застаем нашего автора на исходе двад-
цатого века и со скверным привкусом во рту. Чего, впро-
чем, и следует ожидать, ежели рту за пятьдесят. Но да-
вай, дорогой читатель, прекратим умничать друг с дру-
гом, давай перейдем к делу. Ким Филби был англичанин, и
он был шпион. Он работал в Британской разведывательной
службе -- в М-15 или в М-16, или и там и там -- какая
разница и кому охота разбираться во всех этих нюансах и
акронимах, -- но работал он на русских. Пользуясь про-
фессиональным жаргоном, он был "крот" -- хотя жаргоном
этим злоупотреблять мы не будем. Я не любитель шпионс-
ких историй, не поклонник этого жанра, и никогда им не
был. Ни в свои тридцать, ни даже в пятьдесят. И сейчас
объясню, почему. Во-первых, шпионаж обеспечивает хоро-
ший сюжет, но редко -- сносную прозу. Вообще нынешний
расцвет шпионского жанра -- это побочный продукт модер-
низма с его упором на фактуру, в результате которого
литература практически на всех европейских языках стала
абсолютно бессюжетной; это вызвало реакцию -- неизбеж-
ную, но, за редкими исключениями, столь же третьесорт-
ную. Однако, дорогой читатель, эстетические возражения
вряд ли для тебя столь уж существенны, не правда ли?
Что само по себе определяет время не менее точно, чем
календарь или популярная газета. Давай тогда обратимся
к этике -- в этом деле, судя по всему, всякий -- зна-
ток. Я, например, всегда считают шпионаж наиболее
смрадным из всех видов человеческой деятельности -- на-
верное, прежде всего оттого, что рос я в стране, со-
действие интересам которой было для ее уроженцев немыс-
лимо. Для этого и вправду нужно было быть иностранцем.
Поэтому-то, наверное, страна так гордилась своими мусо-
рами, попутчиками и тайными агентами, увековечивая их
всеми мыслимыми средствами, почто вые марки, мемориаль-
ные доски и памятники включая. О, все эти Рихарды Зор-
ге, Пабло Неруды, Хьюлеты Джонсоны и прочая, вся эта
макулатура нашей юности! О, все эти фильмы, снятые в
Эстонии или Латвии (ради "западного" антуража)! Иност-
ранная фамилия и неоновая вывеска "Hotel" (всегда вер-
тикально, никогда -- горизонтально), иногда -- скрип
тормозов машины чешского производства. Задача заключа-
лась не столько в стремлении к правдоподобию и созданию
напряжения, сколько в утверждении правоты системы пос-
редством описания подвигов, совершаемых ради нее за ее
пределами. То вам сцена в баре с небольшим джаз-бандом,
что-то лабающим в уголке, то -- блондинка в хрустящей,
оттенка консервной банки, парчовой юбке и с приличным
носом, положительно не славянским по форме. Существова-
ли также у нас и два-три актера, достаточно костлявых и
длинных, но упор всегда был на благородный орлиный нос.
Немецкая фамилия шпиона звучала лучше, чем французская,
французская -- лучше, чем испанская, испанская -- чем
итальянская (не могу, как ни стараюсь, припомнить ни
одного итальянца, шпионившего на СССР. Понтекорво?)
Англичане, конечно, были -- экстракласс, но большая
редкость. Так или иначе, попыток изобразить английские
пейзажи или уличные сцены на экране не было, поскольку
у нас не существовало машин с правосторонним управлени-
ем. Славное было время! Но я отвлекся.
VI
Кого занимает, кто в какой стране вырос и повлияло
ли это на его отношение к шпионажу! Тем хуже, если пов-
лияло, поскольку лишило его возможного источника разв-
лечения -- пусть не самого изысканного свойства, но
все-таки развлечения. В свете того, что нас окружает,
не говоря уже о том, что ожидает впереди, это почти
непростительно. Тоска по действию -- мать кинематогра-
фа. А если кому-то шпионы и впрямь отвратительны, то
остается ведь еще охота на шпионов -- занятие столь же
захватывающее, сколь и добродетельное. Что дурного в
легкой паранойе, в небольшой дозе явно выраженной ши-
зофрении? Возможно, в том, как они отображаются в попу-
лярных романах и видеолентах, есть некая узнаваемость,
а стало быть, и психотерапевтическая ценность? И что
есть любое отвращение, в том числе и отвращение к шпио-
нам, если не скрытый невроз, отзвук какой-то детской
травмы? Сначала -- терапия, после -- этика.
VII
Лицо Кима Филби на почтовой марке. Лицо покойного
мистера Филби, эсквайра, из Брайтона (Сассекс) или Вел-
вин-Гардена (Хартфорд) или Амбалы (Индия) -- да откуда
угодно. Лицо англичанина, служившего Советскому Союзу.
Грезы макулатуры, ставшие былью. Наверное, генеральское
звание, если такие пустяки занимали покойника; навер-
ное, высокие награды, может быть -- Герой Советского
Союза. Хотя на взятом для портрета на марке снимке ни-
чего этого нет. Здесь он в штатском, как ходил почти
всю жизнь: темный пиджак и галстук. Медали и эполеты
хранились для алой бархатной подушечки, для похорон с
воинскими почестями, если у него таковые были. Думаю,
что были, при его-то хозяев любви к совсекретным обря-
дам. Много лун назад в отзыве на книгу об одном его ко-
реше для "ЛПТ" я написал, что ввиду заслуг перед со-
ветским государством этого стареющего натурализованного
москвича следует похоронить в кремлевской стене. Я
вспоминаю об этом здесь, потому что мне сказали, что он
был одним из редких подписчиков "ЛПТ" в Москве. Дни
свои, однако, он кончил, по-моему, на протестантском
кладбище -- его хозяева оказались поборниками добропо-
рядочности, хотя бы посмертно. (Занимайся этим прави-
тельство Ее Величества, оно вряд ли справилось бы со
своей задачей лучше.) И теперь меня немножко мучают уг-
рызения. Я представляю себе, как его хоронят, в том са-
мом пиджаке и галстуке, которые изображены на марке, в
этом маскарадном наряде (а может, это была униформа?)
-- в смерти, как в жизни. Наверное, он оставил какие-то
инструкции на сей случай, хотя и не мог быть до конца
уверен, что они будут выполнены. Интересно, были или не
были? И что он хотел, чтоб было начертано на камне? Мо-
жет, строчка из английских стихов? Например: "И смерть
не восторжествует"? Или предпочел голые факты: "Советс-
кий разведчик Ким Филби (1912--1988)"? И хотел ли он
это дать кириллицей?
VIII
Вернемся к скрытому неврозу и детской травме, к
терапии и этике. Когда мне было 24 года, я увлекся од-
ной девушкой, и чрезвычайно. Она была чуть меня старше,
и через какое-то время я начал ощущать, что что-то не
так. Я чуял, что она обманывает меня, а может, даже и
изменяет. Выяснилось, конечно, что я волновался не зря;
но это было позже. Тогда же у меня просто возникли по-
дозрения, и как-то вечером я решил ее выследить. Я
спрятался в подворотне напротив ее дома и ждал там при-
мерно час. А когда она возникла из полутемного подъез-
да, я двинулся за ней и прошел несколько кварталов. Я
был напряжен и испытывал некое прежде незнакомое воз-
буждение. В то же самое время я ощущал некую скуку,
поскольку более или менее представлял себе, какое меня
ждет открытие. Возбуждение нарастало с каждым шагом, с
каждым уклончивым движением; скука же оставалась на
прежнем уровне. Когда она повернула к реке, возбуждение
достигло пика -- и тут я остановился, повернулся и во-
шел в ближайшее кафе. Потом я сваливал вину за прерван-
ное преследование на свою леность и задним числом корил
себя, особенно в свете (точнее, во мраке) развязки это-
го романа; я был Актеоном, преследуемым псами запозда-
лых сожалений. Истина, однако, была куда менее невинна,
но и более занятна. Подлинная причина, почему я остано-
вился, заключалась в том, что я вдруг осознал характер
своего возбуждения. Это была радость охотника, пресле-
дующего добычу. Другими словами, в этом было нечто ата-
вистическое, первобытное. Это осознание не имело ничего
общего с этикой, угрызениями, табу и тому подобным. Ме-
ня нимало не смущало, что я поставил свою девушку в по-
ложенье добычи. Просто я наотрез отказывался быть охот-
ником. Вопрос темперамента, не так ли? Может быть. Воз-
можно, будь мир разделен по принципу четырех темпера-
ментов, или, по крайней мере, сведись он к четырем тем-
пераментами обусловленным политическим партиям, он стал
бы несколько лучше? Тем не менее, я полагаю, что внут-
реннее нежелание превращаться в охотника, способность
осознать и обуздать охотничий импульс связаны с чем-то
более глубинным, нежели темперамент, воспитание, нравс-
твенные ценности, приобретенные знания, вероисповедание
или индивидуальные представления о чести. Они связаны
со степенью индивидуальной эволюции, с эволюцией нашего
вида вообще, с достижением того ее этапа, когда назад
вернуться ты уже неспособен. И шпионы вызывают отвраще-
ние не столько тем, что их ступень на эволюционной ле-
сенке низка, но тем, что предательство заставляет вас
сделать шаг вниз.
IX
Если все это кажется тебе, дорогой читатель,
окольной похвальбой автора собственными добродетелями
-- будь по-твоему. Добродетель, в конце концов, -- вов-
се не синоним способности к выживанию -- в отличие от
двуличия. Но ведь ты согласишься, любезный читатель, не
правда ли, что между любовью и предательством существу-
ет определенная иерархия. Тебе также известно, что
именно первое кончается вторым, а не наоборот. И, хуже
того, ты знаешь, что последнее долговечнее первого. Так
что хвастаться тут особенно нечем, даже если ты околдо-
ван и одурманен, правда? И если человек не дарвинист,
если он хранит верность Кювье, то это потому, что низ-
шие организмы жизнеспособней сложных. Пример -- мох или
водоросли. Я понимаю, что вторгаюсь в чужие пределы. Я
просто пытаюсь сказать, что для развитого организма
двуличие, в худшем случае, есть один из вариантов пове-
дения, тогда как для низшего это способ выжить. В этом
смысле шпион выбирает стать шпионом не более чем ящери-
ца -- свою пигментацию: просто ничего другого им не да-
но. В конце концов, двуличие -- это форма мимикрии,
т.е. тот максимум, на который данное конкретное живот-
ное способно. С этим соображением можно было бы поспо-
рить, если бы шпионы шпионили ради денег, но лучшие из
них делают это из-за убеждений. В этой деятельности их
подстегивает возбуждение, а лучше сказать -- инстинкт,
не сдерживаемый скукой. Ибо скука мешает инстинкту.
Скука -- признак высокоразвитого вида, признак цивили-
зации, если угодно.
X
Кто бы ни был человек, отдавший приказ выпустить
эту марку, он вне всякого сомнения, хотел этим что-то
заявить. В особенности учитывая нынешний политический
климат, потепление в отношениях между Востоком и Запа-
дом и проч. Наверняка решение это было принято наверху,
в священных кремлевских палатах, поскольку Министерство
иностранных дел наверняка всеми силами этому противи-
лось, не говоря уже про Министерство финансов -- какие
они там ни на есть. Руку, тебя кормящую, не кусаешь.
Или -- кусаешь? Да, кусаешь, если у тебя зубы Комитета
государственной безопасности, того самого КГБ, который,
во-первых, по размерам больше обоих этих министерств
вместе взятых -- и не только по числу сотрудников, но и
по месту, занимаемому им в сознании и подсознании как
власть предержащих, так и вовсе ее лишенных. А когда ты
таких размеров, можно укусить любую руку и даже, если
угодно, горло. Причем сделать это можно по нескольким
причинам. Из тщеславия -- напомнить торжествующему За-
паду о своем существовании. Или по инерции: ты давно
привык кусать эту самую руку. Или же от ностальгии по
старым добрым временам, когда диета твоя была насыщена
вражеским протеином, поступавшим в избытке в виде твоих
соотечественников. И все же, при всей монструозности
гебешного аппетита, за идеей выпустить эту марку видит-
ся некое конкретное лицо -- начальник Управления или,
возможно, его заместитель, или же скромный -- не выше
капитана -- сотрудник, которому пришла в голову эта
мысль. Может быть, он просто всегда благоговел перед
Филби; или просто хотел получить повышение у себя в от-
деле; или, наоборот, уже собирался в отставку по воз-
расту и, как многие люди своего поколения, искренно ве-
рил в дидактическую силу почтовой марки. Ни одно из
этих предположений не противоречит остальным. Все эти
вещи -- тщеславие, инерция, ностальгия, благоговение,
карьеризм, наивность -- вполне совместимы, и мозг сред-
него сотрудника КГБ в качестве их вместилища, где все
это смешивается, ничуть не хуже любого другого, включая
компьютер. Что удивительно в истории с этой маркой, так
это быстрота, с которой ее выпустили -- всего через два
года после кончины г-на Филби. Башмаки его, равно как и
перчатки, которых он, говорят, почти не снимал из-за
псориаза, не успели еще, так сказать, остыть. На выпуск
марки в любой стране уходит уйма времени, и обычно это-
му предшествует национальное признание значимости пер-
сонажа. Даже если исключить это условие (в конце кон-
цов, он был тайным агентом), все равно темпы изготовле-
ния этой марки поразительны, учитывая обилие бюрократи-
ческих преград, которые ей теоретически нужно было пре-
одолеть. Но ей, очевидно, ничего такого преодолевать не
пришлось; ее в срочном порядке запустили в производс-
тво. Что порождает ощущение, что за этим клочком бумаги
в четыре квадратных сантиметра стоит чья-то инициатива,
чья-то индивидуальная воля. И ты задумываешься: что
стояло за этой волей? И ты понимаешь, что кто-то хотел
этим что-то заявить. И заявить urbi et orbi. И, как
часть этого orbi, пытаешься представить: что же именно?
XI
Ответ: нечто злорадное и угрожающее; то есть нечто
весьма провинциальное. Любое начинание, боюсь, оценива-
ется по его результатам. Данная марка обрекает покойно-
го г-на Филби на последнее бесчестье, на последнее уни-
жение. Она провозглашает этого британца русской собс-
твенностью, и не в духовном смысле (в этом ничего неза-
урядного не было бы), но именно в физическом, телесном.
Разумеется, Филби сам напросился. Он шпионил на Советс-
кий Союз добрую четверть века. Потом еще четверть века
жил в Советском Союзе и тоже не предавался праздности.
Вдобавок он там и умер и был погребен в российской зем-
ле. Марка эта по сути есть его надгробие. Кроме всего
прочего, не нужно исключать и возможность того, что
посмертное с ним обхождение хозяев пришлось бы ему по
вкусу -- он был достаточно недалек, и секретность --
постель тщеславия. Возможно, он даже одобрил бы идею
такой марки (если вообще не сам ее подал). И все равно
в этом ощущается некое насилие -- более извращенное,
нежели осквернение могилы, -- насилие над природой. В
конце концов, он был британцем, а британцам не впервой
умирать в чужих краях. Отвратительность этой марки -- в
собственническом ощущении: как будто бы земля, погло-
тившая покойника, с удовольствием облизывая губы, про-
износит: "Он мой". Или -- облизывая марку.
XII
Вот что хотел заявить (и заявил) этот скромный
сотрудник КГБ (а может, их было несколько) и что либе-
ральная литературная газета со скромным штрейкбрехерс-
ким прошлым сочла столь забавным. Ладно, примем, так
сказать, к сведению. Как на это реагировать -- и реаги-
ровать ли вообще? Может, следует попытаться эксгумиро-
вать эти нечестивые останки и вывезти их в Британию?
Может, обратиться к советскому правительству с петицией
или предложить ему крупную сумму? Или, может, почтовое
управление Ее Величества должно выпустить антимарку с
текстом типа: "Английский предатель Ким Филби
(1912--1988)" -- по-английски, разумеется, а потом пос-
мотреть, перепечатает ли ее какая-нибудь газета в Рос-
сии? Должны ли мы попытаться вырвать самую идею этого
человека, вопреки ему самому, из коллективного сознания
его хозяев? И кто вообще эти "мы", дорогой читатель,
обеспечивающие твоего автора такими риторическими
удобствами? Нет, ничего подобного сделать нельзя, да и
не нужно. Филби -- там, где ему положено: телом и ду-
хом. Да погниет в мире. Но вот что кто-нибудь -- и я
подчеркиваю именно "кто-нибудь" -- сделать должен, это
лишить вышеупомянутое коллективное сознание права на
обладание этой смрадной реликвией, лишить его того
внутреннего комфорта, которым, как оно полагает, оно
наслаждается. И сделать это совсем нетрудно. Ибо, воп-
реки себе, Ким Филби не был их собственностью. И взгля-
нув на то, где мы сегодня оказались, и особенно где
оказалась Россия, мы увидим, что, несмотря на все усер-
дие, изобретательность, тяжкий труд, ухлопанные деньги
и убитое время, предприятие Филби потерпело крах. Будь
он даже английским двойным агентом, он не мог бы нанес-
ти больший ущерб той системе, усилению которой в дейс-
твительности он пытался способствовать. Но двойной ли,
тройной ли -- он всегда был английский агент, до мозга
костей, ибо конечный итог его столь незаурядных усилий
-- острое чувство тщетности. Тщетность -- это так
по-английски. А теперь -- о вещах повеселее.
XIII
В тех немногих романах про шпионов, которые я про-
чел мальчишкой, роль почтовой марки была столь же вели-
ка, сколь предмет сей бывает мал, и по важности уступа-
ла только разорванной пополам фотографии, появление
второй половины которой часто определяло развязку. На
клейкой стороне марки в этих романах шпионы корябали --
или помещали на микрофильме -- секретные сведения для
хозяев -- или наоборот. Марка с Филби есть, таким обра-
зом, как бы синтез этого пополам разорванного персонажа
с принципом "средство информации тождественно информа-
ции", и уже потому она -- коллекционный экземпляр. К
этому можно добавить, что у собирателей выше всего це-
нятся марки, выпущенные политически или географически
эфемерными территориями -- недолговечными или прекра-
тившими существование государствами, невзрачными владе-
ниями и клочками земли (в детстве, помню, самой желан-
ной была марка острова Питкэрн -- английской, кстати,
колонии в южной части Тихого океана). Так что, если
следовать этой филателистической логике, то выпуск мар-
ки с Филби -- это как бы голос из будущего, СССР поджи-
дающего. Так или иначе, в его будущем есть нечто такое,
что, в лице КГБ, на это напрашивается. Похоже, что мы
живем в замечательное для филателистов время, и не
только в этом смысле. Можно было бы даже поговорить о
филателистической справедливости -- говорится же о поэ-
тической вольности! Ибо полстолетия назад, когда воины
КГБ депортировали жителей балтийских государств, окку-
пированных Советским Союзом, положившим конец их су-
ществованию, как раз филателистами завершался список
социальных категорий, подлежащих упразднению. (Вооб-
ще-то последними в списке шли эсперантисты, филателисты
были на предпоследнем месте. Если память мне не изменя-
ет, всего там было шестьдесят четыре такие категории.
Список начинался с лидеров и активистов политических
партий, за ними шли университетские профессора, журна-
листы, учителя, бизнесмены и т. д. К списку прилагались
подробные инструкции, как нужно отделять кормильца от
семейства, детей от матери и так далее, вплоть до конк-
ретных фраз типа: "А папа пошел на вокзал набрать ки-
пятку". Все это было весьма толково продумано -- и под-
писано генералом КГБ Серовым. Я видел этот документ
собственными глазами; предназначался он для применения
в Литве.) Может быть, отсюда и берет исток вера уходя-
щего в отставку офицера в дидактическую силу почтовой
марки. Что ж, ничто так не радует усталый взгляд бесс-
трастного наблюдателя, как зрелище круга, который замк-
нулся.
XIV
Не будем, однако, пренебрегать дидактической силой
почтовой марки. Эта, по крайней мере, наверное, была
выпущена в целях воодушевления нынешних и будущих сот-
рудников КГБ; вероятно, среди кадровых офицеров она
распространялась бесплатно (скромная служебная льгота).
Что касается только начинающих, то вполне можно себе
представить, что она производит сильное впечатление на
новобранцев. Организация эта придает огромное значение
наглядному материалу и иконографии, и наблюдательность
ее заслуженно славится своей вездесущностью, не говоря
о всеядности. Когда дело касается решения дидактических
задач, в особенности в собственных рядах, эта организа-
ция не останавливается перед расходами. Когда Олег
Пеньковский -- сотрудник ГРУ, который в 1960-х годах
выдал советские военные тайны англичанам, был наконец
схвачен (по крайней мере, так мне рассказывали), его
казнь снималась на кинопленку. Привязанного к носилкам
Пеньковского ввозят в камеру московского городского
крематория. Один служащий открывает дверь топки, а двое
других начинают заталкивать носилки вместе с содержимым
в ревущий огонь; языки пламени уже лижут пятки вопящего
благим матом человека. В этот момент голос в громкого-
ворителе требует прервать процедуру, потому что по рас-
писанию данная пятиминутка отведена для другого тела.
Вопящего, связанного Пеньковского откатывают в сторону;
появляется другое тело и после короткой церемонии зака-
тывается в печь. Снова раздается голос из громкоговори-
теля: теперь действительно очередь Пеньковского, и его
отправляют в огонь. Сценка небольшая, но сильная. По-
сильнее всякого Беккета, укрепляет мораль и при этом
незабываема: обжигает память, как клеймо. Или -- как
марка: для внутренней корреспонденции. В четырех сте-
нах. И за семью замками.
XV
Прежде чем перейти к веселым вещам всерьез, поз-
воль мне, любезный читатель, заметить следующее. Есть
разница между пользой от поздней оглядки и от достаточ-
но долгой жизни, когда узнаёшь, какая у орла решка.
Нет, речь идет не о скидке -- ровно наоборот; большая
часть положений, выдвигаемых твоим автором, обусловлена
его жизнью, и если они не верны, значит, он прожил эту
жизнь, по крайней мере, отчасти, впустую. Но даже если
они верны, все равно остается один вопрос. Имеет ли он
право осуждать людей, которых больше нет, которые -- в
проигрыше? У пережившего своего оппонента возникает
ощущение принадлежности к торжествующему большинству:
дескать, ты-то умеешь играть в карты. Не пытаешься ли
ты таким образом придать закону обратную силу? Не су-
дишь ли ты несчастных мудил по кодексу совести, чуждому
им и их временам? Меня это, честно говоря, не беспокоит
-- по трем причинам. Во-первых, потому что Ким Филби
отдал концы в зрелом 76-летнем возрасте; в данный мо-
мент, когда я пишу эти строки, в этой игре я все еще от
него отстаю на 26 лет, и шансы его догнать в моем слу-
чае весьма туманны. Во-вторых, все то, во что он верил
всю свою жизнь -- предположительно, до самого ее конца,
-- для меня было полной хернёй по крайней мере с
16-летнего возраста, хотя проку от моей дальновидности
было и есть не много. В-третьих, потому что низость че-
ловеческого сердца и пошлость человеческого разума ни-
когда не иссякают с кончиной их наиболее ярких вырази-
телей. Но вот от чего я должен публично отказаться, так
это от каких бы то ни было претензий на компетентность
в той области, в которую сейчас забрел. Я уже сказал,
что я не поклонник шпионов. Про жизнь Филби, например,
я знаю только голый костяк, и то не точно. Я никогда не
читал его биографию, ни по-английски, ни по-русски, и
не думаю, что когда-нибудь прочту. Из всех возможнос-
тей, у человека имеющихся, он выбрал наиболее тавтоло-
гическую: предать одну группу людей -- другой. Этот сю-
жет не заслуживает изучения -- для него достаточно и
интуиции. Кроме того, я не слишком хорошо помню даты,
хотя обычно стараюсь их выверить. Так что на этом этапе
читатель должен для себя решить, хочет он дальше следо-
вать за этим сюжетом или нет. Я, безусловно, хочу и бу-
ду. Наверное, мне нужно было бы объявить все последую-
щее фантазией. Но это не так.
XVI
Надцатого мартобря тысяча девятьсот вездесят мято-
го года в Бруклине агенты ФБР арестовали советского
шпиона. В небольшой квартирке, заваленной фотоаппарату-
рой, на полу, усеянном микрофильмами, стоял невысокий
пожилой мужчина с крысиными глазками, орлиным профилем
и лысеющим лбом; при этом у него деловито двигался ка-
дык: только что проглотил кусочек бумаги с некоей
сверхсекретной информацией. Никакого иного сопротивле-
ния он не оказывал. Вместо этого он гордо заявил: "Я
полковник Красной Армии Рудольф Абель и требую, чтобы
со мною обращались как с таковым, в соответствии с Же-
невской конвенцией". Надо ли говорить, что газеты от
этого просто зашлись -- и в Штатах и вообще везде. Пол-
ковника судили, дали ему астрономический срок и заперли
-- если память мне не изменяет, в Синг-Синге. Там он, в
основном, играл в бильярд. В тысяча девятьсот сисьдесят
старом или около того его обменяли на пропускном пункте
в Берлине на Гэри Пауэрса -- неудачливого пилота, кото-
рый в последний раз попал в газеты всего пару лет на-
зад, когда он опять разбился -- на сей раз около
Лос-Анджелеса, в вертолете, и на сей раз навсегда. Ру-
дольф Абель вернулся в Москву, ушел в отставку и жил
без всякой шумихи, не считая того, что стал самой
страшной бильярдной акулой в Москве и ее окрестностях.
Он умер в тысяча девятьсот немилесятом и был похоронен
с ограниченными воинскими почестями на московском Ново-
девичьем кладбище. Марку с его портретом не выпустили.
Или -- выпустили? Я мог и проморгать. Или же ее промор-
гала английская литературная газета со скромным штрейк-
брехерским прошлым. Может, он не наработал на марку:
что такое четыре года в Синг-Синге по сравнению с делом
всей жизни? К тому же он был не иностранец, а всего
только рядовой перемещенный соотечественник. Так или
иначе, марки Рудольфу Абелю не досталось -- только
надгробие.
XVII
Но что же мы читаем на этом надгробии? Мы читаем:
"Вилли Фишер, известный также под именем Рудольф Абель,
1903--1971" (разумеется, кириллицей). Для марки текст,
пожалуй, длинноват -- но не для нас. (Ах, милый чита-
тель, ты только взгляни, чего у нас тут только нет:
шпионы, марки, кладбища, надгробия! Подожди, то ли еще
будет: поэты, художники, политические убийства, эмиг-
ранты, арабские шейхи, пули, кинжалы, угнанные автомо-
били и опять марки!) Но -- ближе к делу. Жили-были од-
нажды -- в 1936--38 гг. в Испании -- два человека, Вил-
ли Фишер и Рудольф Абель. Они были коллегами и близкими
друзьями. Настолько близкими, что остальные служащие
той же конторы звали их "Фишерабель". Не подумай дурно-
го, дорогой читатель, -- просто они были неразлучны,
отчасти из-за работы, которую выполняли. Просто напар-
ники. Трудились они там на благо советской разведки, в
отделе, ведавшем грязной стороной дела во время граж-
данской войны в Испании. Это та сторона, на которой из-
решеченные пулями тела находят за много километров от
линии фронта. Как бы там ни было, руководил конторой
некто по фамилии Орлов, заведовавший перед испанской
войной из кабинета в советском посольстве в столице
Франции всей советской сетью контрразведки в Западной
Европе. Им мы займемся позже -- или, как знать, может,
это он займется нами. Пока что скажем только, что Орлов
был очень близок с Фишерабелем. Не так близок, как они
друг с другом, но близок. Опять же -- ничего дурного,
поскольку Орлов был женат. Просто он был начальником, а
Фишерабель -- его правой и левой рукой одновременно.
Обе, как я сказал, грязные.