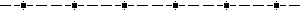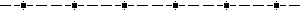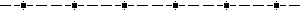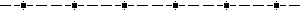Скорбь и разум
I
Я должен сказать вам, что нижеследующее -- резуль-
тат семинара, проведенного четыре года назад в College
International de Philosophie в Париже. Отсюда некоторая
скороговорка; отсюда также недостаточность биографичес-
кого материала -- несущественного, на мой взгляд, для
анализа произведения искусства вообще и, в частности,
когда имеешь дело с иностранной аудиторией. В любом
случае местоимение "вы" на этих страницах означает лю-
дей незнакомых или слабо знакомых с лирической и по-
вествовательной мощью поэзии Роберта Фроста. Но сперва
некоторые основные сведения.
Роберт Фрост родился в 1874-м и умер в 1963 году в
возрасте восьмидесяти восьми лет. Один брак, шестеро
детей; в молодости нуждался; фермерствовал, а позднее
учительствовал в различных школах. До старости путе-
шествовал не слишком много; жил главным образом на Вос-
точном побережье в Новой Англии. Если поэзия является
результатом биографии, то эта биография ничего не сули-
ла. Однако он опубликовал девять книг стихов; вторая,
"К северу от Бостона", вышедшая, когда ему было сорок
лет, сделала его знаменитым. Это было в 1914 году.
После чего дела пошли более гладко. Но литератур-
ная слава не обязательно означает популярность. Потре-
бовалась вторая мировая война, чтобы на Фроста обратила
внимание широкая публика. В 1943 году для поднятия бое-
вого духа Совет по книгам военного времени распростра-
нил среди американских экспедиционных сил пятьдесят ты-
сяч экземпляров фростовского "Войди!". К 1955 году его
"Избранные стихотворения" вышли четвертым изданием, и
уже можно было говорить, что его поэзия приобрела ста-
тус национальной.
Так оно и было. На протяжении почти пяти десятиле-
тий после публикации "К северу от Бостона" Фрост пожи-
нал все возможные награды и почести, какие только могут
выпасть на долю американского поэта; незадолго до смер-
ти Фроста Джон Кеннеди пригласил его прочитать стихот-
ворение на церемонии инаугурации. Вместе с признанием,
естественно, появилась масса зависти и неприязни, кото-
рые в значительной степени водили пером собственного
биографа Фроста. Однако как лесть, так и неприязнь име-
ли один общий признак: почти полное непонимание того,
что такое Фрост.
Его обычно рассматривали как поэта деревни, сель-
ской местности -- грубоватый остряк в народном духе,
старый джентльмен-фермер, в целом с позитивным взглядом
на мир. Короче, такой же американский, как яблочный пи-
рог. Говоря по правде, он в значительной мере способс-
твовал этому, создавая именно такой образ в многочис-
ленных публичных выступлениях и интервью на протяжении
всей своей деятельности. Полагаю, это было для него не
слишком трудно, ибо эти свойства также были ему прису-
щи. Он действительно был американским поэтом по самой
своей сути, однако нам следует выяснить, из чего эта
суть состоит и что означает термин "американский" при-
менительно к поэзии и, возможно, вообще.
В 1959 году на банкете, устроенном в Нью-Йорке по
случаю восьмидесятипятилетия Роберта Фроста, поднялся с
бокалом в руке наиболее выдающийся литературный критик
того времени Лайонел Триллинг и заявил, что Роберт
Фрост "устрашающий поэт". Это, конечно, вызвало некото-
рый шум, но эпитет был выбран верно.
Я хочу, чтобы вы отметили различие между устрашаю-
щим и трагическим. Трагедия, как известно, всегда fait
accompli; тогда как страх всегда связан с предвосхище-
нием, с признанием человеком собственного негативного
потенциала -- с осознанием того, на что он способен. И
сильной стороной Фроста было как раз последнее. Другими
словами, его позиция в корне отличается от континен-
тальной традиции поэта как трагического героя. И одно
это отличие делает его -- за неимением лучшего термина
-- американцем.
На первый взгляд кажется, что он положительно от-
носится к своему окружению, особенно к природе. Одна
его "осведомленность в деревенском быте" может создать
такое впечатление. Однако существует различие между
тем, как воспринимает природу европеец, и тем, как ее
воспринимает американец. Обращаясь к этому различию, У.
Х. Оден в своем коротком очерке о Фросте говорит что-то
в таком роде: когда европеец желает встретиться с при-
родой, он выходит из своего коттеджа или маленькой гос-
тиницы, наполненной либо друзьями, либо домочадцами, и
устремляется на вечернюю прогулку. Если ему встречается
дерево, это дерево знакомо ему по истории, которой оно
было свидетелем. Под ним сидел тот или иной король, из-
мышляя тот или иной закон, -- что-нибудь в таком духе.
Дерево стоит там, шелестя, так сказать, аллюзиями. До-
вольный и несколько задумчивый, наш герой, освеженный,
но не измененный этой встречей, возвращается в свою
гостиницу или коттедж, находит своих друзей или семью в
целости и сохранности и продолжает веселиться. Когда же
из дома выходит американец и встречает дерево, это
встреча равных. Человек и дерево сталкиваются в своей
первородной мощи, свободные от коннотаций: ни у того ни
у другого нет прошлого, а чье будущее больше -- бабушка
надвое сказала. В сущности, это встреча эпидермы с ко-
рой. Наш герой возвращается в свою хижину в состоянии
по меньшей мере смятения, если не в настоящем шоке или
ужасе.
Сказанное выглядит явно романтической карикатурой,
но она подчеркивает особенности, а именно этого я здесь
и добиваюсь. Во всяком случае, вторую часть сопоставле-
ния можно свободно объявить сутью фростовской поэзии о
природе. Природа для этого поэта не является ни другом,
ни врагом, ни декорацией для человеческой драмы; она
устрашающий автопортрет самого поэта. Теперь я собира-
юсь заняться одним из его стихотворений, появившимся в
сборнике 1942 года "Дерево-свидетель". Я намереваюсь
изложить свои взгляды и мнения относительно его строк,
не заботясь об академической объективности, и некоторые
из этих взглядов будут довольно мрачными. Все, что я
могу сказать в свою защиту, это а) что я действительно
необычайно люблю этого поэта и попытаюсь представить
его вам таким, как он есть, и б) что часть этой мрач-
ности не вполне моя: это осадок его строк помрачил мой
ум; другими словами, я получил это от него.
II
Теперь обратимся к "Войди!".
Короткое стихотворение в коротком размере -- фак-
тически комбинация трехсложника с двусложником, анапес-
та с ямбом. Строй баллад, которые в общем и целом все о
крови и возмездии. И таково до некоторого момента это
стихотворение. На что намекает размер? О чем тут идет
речь? Прогулка по лесу? Променад на природе? Нечто, чем
обычно занимаются поэты? (И если так, между прочим, то
зачем?) "Войди!" -- одно из многих стихотворений, напи-
санных Фростом о таких прогулках. Вспомните "Глядя на
лес снежным вечером", "Знакомый с ночью", "Пустынные
места", "Прочь" и т. д. Или припомните "Дрозд в сумер-
ках" Томаса Харди, с которым данное стихотворение имеет
явное сходство. Харди тоже очень любил одинокие прогул-
ки, с той лишь разницей, что они имели тенденцию закан-
чиваться на кладбище -- поскольку Англия была заселена
давно и, полагаю, более плотно.
Начать с того, что мы снова имеем дело с дроздом.
А певец, как известно, тоже птица, поскольку, строго
говоря, оба поют. В дальнейшем мы должны иметь в виду,
что наш поэт может делегировать некоторые свойства сво-
ей души птице. Вообще-то я твердо уверен, что эти две
птицы связаны. Разница лишь в том, что Харди требуется
шестнадцать строчек, чтобы ввести свою птицу в стихот-
ворение, тогда как Фрост приступает к делу во второй
строчке. В целом это указывает на различие между амери-
канцами и британцами -- я имею в виду поэзию. Вследс-
твие большего культурного наследия, большей системы
ссылок британцу обычно требуется гораздо больше време-
ни, чтобы запустить стихотворение. Эхо настойчивей зву-
чит в его ушах, и поэтому прежде, чем приступить к
предмету, он играет мускулами и демонстрирует свои воз-
можности. Обычно практика такого рода приводит к тому,
что экспозиция занимает столько же места, сколько собс-
твенно "мессэдж": к длинному дыханию, если угодно, --
хотя отнюдь не у всякого автора это непременно недоста-
ток.
Теперь разберем строчку за строчкой. "Когда я по-
дошел к краю леса" -- довольно простая, информативная
штука, заявляющая предмет и устанавливающая размер. Не-
винная на первый взгляд строчка, не так ли? Если бы не
"лес". "Лес" заставляет насторожиться, "край" тоже. По-
эзия -- дама с огромной родословной, и каждое слово в
ней практически заковано в аллюзии и ассоциации. С че-
тырнадцатого века леса сильно попахивают selv'ой os-
cur'ой, и вы, вероятно, помните, куда завела эта selva
автора "Божественной комедии". Во всяком случае, когда
поэт двадцатого века начинает стихотворение с того, что
он очутился на краю леса, в этом присутствует некоторый
элемент опасности или по крайней мере легкий намек на
нее. Край, вообще говоря, вещь достаточно острая.
А может быть, и нет; может быть, наши подозрения
беспочвенны, может быть, мы склонны к паранойе и вчиты-
ваем слишком много в эту строчку. Перейдем к следующей,
и мы увидим: "...Музыка дрозда -- слушай!" Похоже, мы
дали маху. Что может быть безобидней, чем это устарев-
шее, отдающее викторианским, сказочно-волшебное "hark"?
(Скорее "чу!", чем "слушай!"). Птица поет -- слушай!
"Hark" (чу!) действительно уместно в стихотворении Хар-
ди или в балладе; еще лучше -- в считалке. Оно предпо-
лагает такой уровень изложения, на котором не может ид-
ти речи о чем-либо неблагоприятном. Стихотворение обе-
щает развиваться в ласкающем, мелодичном духе. По край-
ней мере, услышав "hark", вы думаете, что вам предстоит
нечто вроде описания музыки, исполняемой дроздом, --
что вы вступаете на знакомую территорию.
Но это был лишь зачин, как показывают следующие
две строчки. Это была всего лишь экспозиция, втиснутая
Фростом в две строчки. Внезапно, отнюдь не чинным, про-
заичным, немелодичным и невикторианским образом дикция
и регистр меняются:
Now if it was dusk outside,
Inside it was dark.
Теперь, если снаружи были сумерки,
Внутри было темно.
В "now" (теперь) и состоит этот фокус, оставляющий
мало места для фантазии. Более того, вы осознаете, что
"hark" рифмуется с "dark"(темный). И это "dark" и есть
состояние "inside" (внутри), которое отсылает не только
к лесу, поскольку запятая ставит это "inside" в резкую
оппозицию к "outside" (снаружи) третьей строчки и пос-
кольку эта оппозиция дается в четвертой строчке, что
делает утверждение более категоричным. Не говоря уже о
том, что эта оппозиция всего лишь вопрос замены двух
букв: подстановка "ar" вместо "us" между "d" и "k".
Гласный остается, в сущности, тем же. Различие лишь в
одном согласном.
Четвертая строчка несколько душная. Это связано с
распределением ударений, отличающимся от первого двус-
ложника. Строфа, так сказать, стягивается к своему кон-
цу, и цезура после "inside" только подчеркивает этого
"inside" изоляцию. Предлагая вам намеренно тенденциоз-
ное прочтение этого стихотворения, я стремлюсь обратить
ваше внимание на каждую его букву, каждую цезуру хотя
бы потому, что речь в нем идет о птице, а трели птицы
-- вопрос пауз и, если угодно, литер. Будучи по преиму-
ществу односложным, английский язык чрезвычайно приго-
ден для этих попугайских дел, и, чем короче размер, тем
больше нагрузка на каждую букву, каждую цезуру, каждую
запятую. Во всяком случае, "dark" буквально переводит
"woods" в la selva oscura.
Памятуя о том, входом куда был этот "сумрачный
лес", перейдем к следующей строфе:
Too dark in the woods for a bird
By sleight of wing
To better its perch for the night,
Though it still could sing.
Слишком мрачно для птицы в лесу,
Чтобы взмахом крыла
Устроить на ночь шесток,
Но она еще может петь.
Что, по-вашему, здесь происходит? Простодушный чи-
татель из британцев, или с континента, или даже истин-
ный американец ответил бы, что это о птичке, поющей ве-
чером, и что напев приятный. Интересно, что он был бы
прав, именно на правоте такого рода зиждется репутация
Фроста. Хотя как раз эта строфа особенно мрачная. Можно
было бы утверждать, что стихотворение содержит что-то
неприятное, возможно самоубийство. Или если не самоу-
бийство, то, скажем, смерть. А если не обязательно
смерть, тогда -- по крайней мере в этой строфе --
представление о загробной жизни.
В "Слишком мрачно для птицы в лесу" птица -- она
же певец -- тщательно исследует "лес" и находит его
слишком мрачным. "Слишком" в данном случае отзывается
-- нет! вторит -- начальным строчкам Дантовой Комедии;
в восприятии нашей птицы / певца эта selva отличается
от оценки великого итальянца. Говоря яснее, загробная
жизнь для Фроста мрачнее, чем для Данте. Спрашивается
почему, и ответ: либо потому, что он не верит во все
эти истории, либо причисляет себя к проклятым. Не в его
власти улучшить свое конечное положение, и я осмелюсь
сказать, что "взмах крыла" можно рассматривать как от-
сылку к соборованию. Прежде всего это стихотворение о
старости и о размышлении, что за этим последует. "Уст-
роить на ночь шесток" связано с возможностью быть при-
писанным к чему-то еще, не только к аду, ночь в данном
случае -- ночь вечности. Единственное, что птица / пе-
вец способны предъявить, -- это что она / он еще могут
петь.
Лес "слишком мрачен" для птицы, потому что птица
слишком далеко зашла в своем бытовании птицей. Никакое
движение ее души, иначе говоря "взмах крыла", не может
улучшить ее конечной судьбы в этом лесу. Чей это лес, я
полагаю, мы знаем: на одной из его ветвей птице в любом
случае предстоит окончить свой путь, и "шесток" дает
ощущение, что этот лес хорошо структурирован: это замк-
нутое пространство, что-то вроде курятника, если угод-
но. Так что наша птица обречена; никакое обращение в
последнюю минуту ("sleight", ловкость рук -- трюкачес-
кий термин) невозможно хотя бы потому, что певец слиш-
ком стар для любого проворного движения. Но, хоть и
стар, он все еще может петь.
И в третьей строфе перед нами поющая птица: перед
нами сама песня, последняя песня. Это потрясающе широ-
кий жест. Посмотрите, как каждое слово здесь отсрочива-
ет следующее. "The last"(отблеск) -- цезура -- "of the
light" (cвета) -- цезура -- "of the sun" (солнца) --
конец строчки, представляющий собой большую цезуру, --
"That had died" (Что умерло) -- цезура -- "in the west"
(на западе). Наша птица / певец прослеживает отблеск
света до его исчезнувшего источника. Вы почти слышите в
этой строчке старую добрую "Шенандоа", песню отправляв-
шихся на закат. Задержание и откладывание здесь ощути-
мы. "Отблеск" не конец, и "света" не конец, и "солнца"
тоже не окончание. И даже "что умерло" не окончание,
хотя ему следовало бы быть таковым. Даже "на западе" не
конец. Перед нами песня продлившихся света, жизни. Вы
почти видите палец, указывающий на источник и затем в
широком круговом движении последних двух строк возвра-
щающийся к говорящему в "Still lived" (еще жил) -- це-
зура -- "for one song more" (для еще одной песни) --
конец строки -- " In a thrush's breast" (В груди дроз-
да). Между "отблеском" и "грудью" наш поэт покрывает
громадное расстояние: в ширину континента, если угодно.
В конце концов, он описывает свет, который все еще на
нем, в противоположность мраку леса. В конце концов,
грудь -- источник любой песни, и вы почти видите здесь
не столько дрозда, сколько малиновку; во всяком случае,
птицу, поющую на закате: свет задержался на ее груди.
И здесь в начальных строчках четвертой строфы пути
птицы и певца расходятся. "Far in the pillared dark /
Thrush music went..." (Далеко во тьме колонн / Звучала
музыка дрозда). Ключевое слово здесь, конечно, "ко-
лонн": оно наводит на мысль об интерьере собора -- во
всяком случае, церкви. Другими словами, наш дрозд вле-
тает в лес, и вы слышите его музыку оттуда, "Almost li-
ke a call to come in / To the dark and lament" (Почти
как призыв войти / Во тьму и горевать). Если угодно, вы
можете заменить "lament" (горевать) на "repent" (каять-
ся): результат будет практически тот же. Здесь описыва-
ется один из вариантов, который наш старый певец мог бы
выбрать в этот вечер, но этого выбора он не сделал.
Дрозд в конечном счете выбрал "взмах крыла". Он устраи-
вается для ночевки; он принимает свою судьбу, ибо сожа-
ление есть приятие. Здесь можно было бы погрузиться в
лабиринт богословских тонкостей -- по природе своей
Фрост был протестантом и т. д. Я бы от этого воздержал-
ся, ибо позиция стоика в равной мере подходит как веру-
ющим, так и агностикам; при занятии поэзией она практи-
чески неизбежна. В целом, отсылки (особенно религиоз-
ные) не стоит сужать до выводов.
"But no, I was out for stars" (Но нет, я искал
звезды) -- обычный обманный маневр Фроста, отражающий
его позитивный настрой: строчки, подобные этой, и соз-
дали ему его репутацию. Если он действительно "искал
звезды", почему он не упомянул этого раньше? Почему он
написал целое стихотворение о чем-то другом? Но эта
строчка здесь не только для того, чтобы обмануть нас.
Она здесь для того, чтобы обмануть -- или, вернее, ус-
покоить -- себя самого. Такова вся эта строфа. При ус-
ловии, что мы не рассматриваем эту строчку как общее
утверждение поэта относительно его присутствия в мире
-- в романтическом ключе, то есть как строчку о его об-
щей метафизической склонности, которую, естественно, не
может нарушить эта маленькая мука одной ночи.
I would not come in.
I meant not even if asked,
And I hadn't been.
Я не хотел бы входить.
Не собирался, даже если бы меня позвали,
А меня и не звали.
В этих словах слишком много шутливой горячности,
чтобы мы приняли их за чистую монету, хотя нам не сле-
дует исключать и такой вариант. Человек защищает себя
от собственного прозрения, и это звучит твердо в грам-
матическом, а также и силлабическом смысле и менее иди-
оматично -- особенно во второй строчке: "Я не хотел бы
входить", которую легко усечь до "Я не войду". "Даже
если бы меня позвали" звучит с угрожающей решимостью,
которая могла бы означать декларацию его агностицизма,
если бы не ловко ввернутое "А меня и не звали" послед-
ней строчки. Это действительно ловкость рук.
Или же вы можете толковать эту строфу и вместе с
ней все стихотворение как скромное примечание или пост-
скриптум к Дантовой Комедии, которая кончается "звезда-
ми", -- как его признание, что он обладает либо меньшей
верой, либо меньшим дарованием. Поэт здесь отказывается
от приглашения войти во мрак; более того, он подвергает
сомнению сам призыв: "[Почти] как призыв войти..." Не
следует слишком озадачиваться родством Фроста и Данте,
но время от времени оно ощутимо, особенно в стихотворе-
ниях, связанных с темными ночами души, -- как, напри-
мер, в "Acquainted with the Night" (Знакомый с ночью).
В отличие от некоторых своих прославленных современни-
ков, Фрост никогда не выставляет напоказ свою образо-
ванность -- главным образом потому, что она у него в
крови. Так что "Я не собирался, даже если бы меня поз-
вали" можно прочитать не только как его отказ сыграть
на своем тяжелом предчувствии, но также как свидетель-
ство его стилистического выбора в отказе от крупных
форм. Как бы то ни было, ясно одно: без Комедии Данте
это стихотворение не существовало бы.
Но если вы захотите прочесть "Войди!" как стихот-
ворение о природе, извольте. Хотя я предлагаю, чтобы вы
подольше задержались на заглавии. Двадцать строчек сти-
хотворения составляют, в сущности, перевод заглавия. И,
боюсь, в этом переводе "войди" означает "умри".
III
Если в "Войди!" Фрост предстает в наилучшей лири-
ческой форме, то в "Домашних похоронах" перед нами
Фрост-повествователь. Вообще-то "Домашние похороны" не
повествование; это эклога. Или, точнее, -- пастораль,
правда, очень мрачная. Но, поскольку в ней рассказыва-
ется история, это, безусловно, повествование; хотя спо-
соб изложения в нем -- диалог, а жанр определяется как
раз способом изложения. Изобретенная Феокритом в его
идиллиях, усовершенствованная Вергилием в стихотворени-
ях, называемых эклогами или буколиками, пастораль, в
сущности, является обменом реплик между двумя или более
персонажами на лоне природы с обычным обращением к неу-
вядаемой теме любви. Поскольку английское и французское
слово "пастораль" перегружено приятными коннотациями и
поскольку Фрост ближе к Вергилию, чем к Феокриту, и не
только хронологически, давайте, следуя Вергилию, назо-
вем это стихотворение эклогой. Здесь наличествует дере-
венское окружение, равно как и два персонажа: фермер и
его жена, которые могут сойти за пастуха и пастушку,
если позабыть, что это происходит на две тысячи лет
позже. Такова же и тема: любовь через две тысячи лет.
Говоря короче, Фрост очень вергилиевский поэт. Под
этим я подразумеваю Вергилия "Буколик" и "Георгик", а
не Вергилия "Энеиды". Начать с того, что молодой Фрост
фермерствовал и при этом много писал. Поза джентльме-
на-фермера была не вполне позой. Фактически до конца
своих дней он продолжал скупать фермы. Ко времени своей
смерти он владел, если не ошибаюсь, четырьмя фермами в
Вермонте и Нью-Хэмпшире. Он кое-что понимал в том, как
кормиться от земли, -- во всяком случае не меньше Вер-
гилия, который, по-видимому, был кошмарным фермером,
судя по агрономическим советам, рассыпанным в "Георги-
ках".
За несколькими исключениями, американская поэзия
по сути своей вергилиевская, иначе говоря, созерцатель-
ная. То есть если вы возьмете четырех римских поэтов
августовского периода: Проперция, Овидия, Вергилия и
Горация как типичных представителей четырех известных
темпераментов (холерическая напряженность Проперция,
сангвинические совокупления Овидия, флегматические раз-
мышления Вергилия, меланхолическая уравновешенность Го-
рация), то американская поэзия -- и поэзия на английс-
ком языке вообще -- представляется поэзией главным об-
разом вергилиевского или горациевского типа. (Вспомните
громоздкие монологи позднего Уоллеса Стивенса или позд-
него, американского Одена.) Однако сходство Фроста с
Вергилием не столько в темпераменте, сколько в технике.
Помимо частого обращения к личине (или маске) и возмож-
ности отстранения, которую вымышленный персонаж дает
поэту, Фрост и Вергилий имеют общую тенденцию скрывать
реальный предмет диалога под монотонным матовым блеском
своих соответственно пентаметров и гекзаметров. Поэта
исключительной углубленности и беспокойства, Вергилия
"Эклог" и "Георгик", обычно принимают за певца любви и
сельских радостей, так же как автора "К северу от Бос-
тона".
К этому следует добавить, что Вергилий у Фроста
приходит к вам затемненный Водсвортом и Браунингом.
Возможно, лучше сказать -- "профильтрованный", и драма-
тический монолог Браунинга -- вполне фильтр, сводящий
драматическую ситуацию к сплошной викторианской амбива-
лентности и неопределенности. Мрачные пасторали Фроста
так же драматичны, не только в смысле интенсивности
взаимоотношений персонажей, но более всего в том смыс-
ле, что они действительно театральны. Это род театра, в
котором автор играет все роли, включая сценографа, ре-
жиссера, балетмейстера и т. д. Он же гасит свет, а
иногда представляет собой и публику.
И это оправданно. Ибо идиллии Феокрита, как почти
вся античная поэзия, в свою очередь не что иное, как
выжимка из греческой драмы. В "Домашних похоронах" пе-
ред нами арена, превращенная в лестницу с перилами в
духе Хичкока. Начальная строчка сообщает вам столько же
о положениях актеров, сколько и об их ролях: охотника и
его дичи. Или, как вы увидите позже, -- Пигмалиона и
Галатеи, с той разницей, что в данном случае скульптор
превращает свою живую модель в камень. В конечном счете
"Домашние похороны" -- стихотворение о любви, и хотя бы
на этом основании его можно считать пасторалью.
Но рассмотрим первые полторы строчки:
He saw her from the bottom of the stairs
Before she saw him.
Он увидел ее снизу лестницы
Прежде, чем она увидела его.
Фрост мог бы остановиться прямо здесь. Это уже
стихотворение, это уже драма. Представьте эти полторы
строчки расположенными на странице самостоятельно, в
духе минималистов. Это чрезвычайно нагруженная сцена
или, лучше, -- кадр. Перед вами замкнутое пространство,
дом и два индивидуума с противоположными -- нет, раз-
личными -- целями. Он -- внизу лестницы; она -- навер-
ху. Он смотрит вверх на нее; она, насколько мы знаем,
пока вообще не замечает его присутствия. Следует пом-
нить также, что все дано в черно-белом. Лестница, раз-
деляющая их, наводит на мысль об иерархии значимостей.
Это пьедестал, на котором она (по крайней мере в его
глазах), а он -- у подножия (в наших глазах и в конеч-
ном счете в ее). Все в остром ракурсе. Поставьте себя в
любое положение -- лучше в его, -- и вы увидите, что я
имею в виду. Представьте, что вы следите, наблюдаете за
кем-то, или представьте, что наблюдают за вами. Предс-
тавьте, что вы истолковываете чье-то движение -- или
неподвижность -- втайне от наблюдаемого. Именно это
превращает вас в охотника или в Пигмалиона.
Позвольте мне еще немного продолжить это сравнение
с Пигмалионом. Изучение и истолкование -- суть любого
напряженного человеческого взаимодействия, и в особен-
ности любви. Они же и мощнейшие источники литературы:
художественной прозы (которая в общем и целом вся о
предательстве) и прежде всего лирической поэзии, где мы
пытаемся разгадать предмет нашей любви и что ей / им
движет. И это разгадывание вновь возвращает нас к воп-
росу о Пигмалионе, причем буквально, ибо, чем больше вы
отсекаете, чем глубже вы проникаете в характер, тем
вернее вы ставите свою модель на пьедестал. Замкнутое
пространство -- будь то дом, мастерская, страница --
чрезвычайно усиливает эту пьедестальную сторону дела. И
в зависимости от вашего усердия и способности модели к
сотрудничеству процесс этот приводит либо к шедевру,
либо к провалу. В "Домашних похоронах" он приводит и к
тому и к другому. Ибо каждая Галатея есть в конце кон-
цов самопроекция Пигмалиона. С другой стороны, искусс-
тво не подражает жизни, но заражает ее.
Итак, понаблюдаем за поведением модели:
She was starting down,
Looking back over her shoulder at some fear.
She took a doubtful step and then undid it
To raise herself and look again.
Она из двери вышла наверху
И оглянулась, точно бы на призрак.
Спустилась на ступеньку вниз, вернулась
И оглянулась снова.
На буквальном уровне, на уровне прямого повество-
вания, перед нами героиня, начавшая спускаться по лест-
нице, ее голова повернута к нам в профиль, взгляд за-
держивается на каком-то страшном зрелище.
Она колеблется и прерывает спуск, ее глаза все еще
обращены, по-видимому, на то же зрелище: не на ступень-
ки, не на героя внизу. Но вы понимаете, что здесь при-
сутствует еще один уровень, не правда ли?
Давайте оставим этот уровень пока неназванным.
Всякая информация в этом повествовании приходит к вам в
изолированном виде, в пределах строчки пентаметра. Изо-
ляция осуществляется белыми полями, окаймляющими, так
сказать, всю сцену, подобно молчанию дома; а сами
строчки -- лестница. В сущности, перед нами последова-
тельность кадров. "Она из двери вышла наверху" -- один
кадр. "И оглянулась, точно бы на призрак" -- другой;
фактически, это крупный план, профиль -- вы видите вы-
ражение ее лица. "Спустилась на ступеньку вниз, верну-
лась" -- третий: опять крупный план -- ноги. "И огляну-
лась снова" -- четвертый -- в полный рост.
Но это еще и балет. Здесь, как минимум, два pas de
deux, переданные с удивительной эйфонической, почти ал-
литерационной точностью. Я имею в виду несколько "d" в
этой строчке ("She took a doubtful step and then undid
it"), в "doubtful" и в "undid it", хотя "t" тоже важны.
Особенно хорошо "undid it", поскольку вы чувствуете в
этом шаге упругость. И профиль по контрасту с движением
тела -- сама формула драматической героини -- прямо из
балета.
Но настоящее faux pas de deux начинается с "He
spoke / Advancing toward her..." (Он заговорил, двига-
ясь к ней). Следующие двадцать пять строк происходит
разговор на лестнице. Во время разговора мужчина подни-
мается по лестнице, преодолевая механически и вербально
то, что их разделяет. "Двигаясь" выдает неловкость и
плохое предчувствие. Напряжение растет с растущим сбли-
жением. Однако механическое и подразумеваемое физичес-
кое сближение достигаются легче вербального -- то есть
психологического,-- и об этом стихотворение. "What is
it you see? / From up there always? -- for I want to
know" (Что ты там видишь сверху? -- ибо я хочу знать)
-- весьма характерный для Пигмалиона вопрос, обращенный
к модели на пьедестале: наверху лестницы. Он очарован
не тем, что он видит, но тем, что, по его представле-
нию, за этим таится -- что он туда помещает. Он облека-
ет ее тайной, а затем срывает ее покровы: в этой нена-
сытности -- вечная раздвоенность Пигмалиона. Как будто
скульптора озадачило выражение лица модели: она "видит"
то, чего не "видит" он. Поэтому ему приходится самому
лезть на пьедестал, чтобы поставить себя в ее положе-
ние. В положение "всегда наверху" -- топографического
(vis-a-vis дома) и психологического преимущества, куда
он сам ее поместил. Именно последнее, психологическое
преимущество творения и беспокоит творца, что показыва-
ет эмфатическое "ибо я хочу знать".
Модель отказывается сотрудничать. В следующем кад-
ре "She turned and Sank upon her skirts..." (Она обер-
нулась и опустилась на свои юбки), за которым идет
крупный план: "И страх сменился на лице тоской" -- вы
ясно видите это нежелание сотрудничать. Однако отказ от
сотрудничества здесь и [есть ]сотрудничество. Ибо сле-
дует помнить, что психологическое преимущество этой
женщины в самопроекции мужчины. Он сам приписал ей его.
Поэтому, отвергая героя, она только подстегивает его
воображение. В этом смысле, отказываясь сотрудничать,
она подыгрывает ему. Вся ее игра, в сущности, в этом.
Чем выше он поднимается, тем больше это преимущество;
он наращивает его, так сказать, с каждым шагом.
Тем не менее он поднимается: в "He said to gain
time" (он сказал, чтобы выиграть время); он поднимается
и в
"What is it you see?"
Mounting until she cowered under him.
"I will find out now -- you must tell me, dear".
"Что ты там видишь?"
Поднимаясь, пока она не сжалась перед ним.
"Сейчас я выясню -- ты должна сказать мне,
родная".
Наиболее важное слово здесь -- глагол "see" (ви-
деть), который встречается во второй раз. В следующих
девяти строчках он будет использован еще четыре раза.
Скоро мы к этому подойдем. Но сначала разберем строчку
с "mounting" и следующую. Это мастерская работа. Словом
"mounting" поэт убивает сразу двух зайцев, ибо "moun-
ting" описывает как подъем, так и поднимающегося. И
поднимающийся принимает даже большие размеры, потому
что женщина "сжимается" -- то есть съеживается перед
ним. Вспомните, что она смотрит "at some fear" (с неко-
торым страхом). "Поднимающийся" в сравнении со "съежив-
шейся" дает контраст этих кадров, причем в его увели-
ченных размерах заключена подразумеваемая опасность. Во
всяком случае, альтернатива ее страху не утешение. Ре-
шительность слов "Я сейчас выясню" отвечает превосходя-
щей физической массе и не смягчена вкрадчивым "родная",
которое следует за ремаркой "ты должна мне сказать" --
одновременно императивной и подразумевающей сознание
этого контраста.
She, in her place, refused him any help,
With the least stiffening of her neck and si-
lence.
She let him look, sure that he wouldn't see,
Blind creature; and awhile he didn't see.
But at last he murmured, "Oh", and again,
"Oh".
"What is it -- what?" she said.
"Just that I see".
"You don't", she challenged. "Tell me what it
is".
"The wonder is I didn't see at once".
Она его как будто не слыхала.
На шее жилка вздулась, и в молчанье
Она позволила ему взглянуть,
Уверенная, что слепой: не может
Увидеть. Он смотрел и вдруг увидел
И выдохнул: -- А! -- И еще раз: -- А!
-- Что, что? -- она спросила. --
-- Да увидел.
-- Нет, не увидел. Что там, говори!
-- И как я до сих пор не догадался!
Теперь мы займемся глаголом "see" (видеть). На
протяжении пятнадцати строк он использован шесть раз.
Любой искушенный поэт знает, как рискованно на неболь-
шом отрезке использовать несколько раз одно и то же
слово. Риск этот -- риск тавтологии. Чего же добивается
здесь Фрост? Думаю, именно этого -- тавтологии.Точнее,
несемантического речения. Которое мы имеем, к примеру,
в "А! -- И еще раз: -- А!". У Фроста была теория о, как
он их называл, "звукопредложениях". Она связана с его
наблюдением, что звучание, тональность человеческой ре-
чи так же семантичны, как и реальные слова. К примеру,
вы подслушиваете разговор двух людей из-за запертой
двери комнаты. Вы не слышите слов, но понимаете общий
смысл диалога; фактически, вы можете довольно точно до-
мыслить его суть. Другими словами, мотивчик значит
больше текста, вполне заменимого или излишнего. Во вся-
ком случае, повторение того или иного слова высвобожда-
ет мелодию, делает ее более слышимой. К тому же такое
повторение высвобождает ум, избавляя вас от понятия,
представленного этим словом. (Конечно, это старый прием
дзэна, но то, что мы находим его в американском стихе,
заставляет задуматься, не возникают ли философские
принципы из текстов, а не наоборот.)
Шесть "see" здесь делают именно это. Они восклица-
ют, а не объясняют. Это могло бы быть "see", это могло
бы быть "Oh" или "yes" -- любое односложное слово. Идея
здесь в том, чтобы взорвать глагол изнутри, ибо содер-
жание реального наблюдения одолевает процесс наблюде-
ния, его способы и самого наблюдателя. Эффект, который
пытается создать Фрост, -- неадекватность отклика, ког-
да вы автоматически повторяете первое пришедшее на ум
слово. "Вижу" здесь -- просто шараханье от неизъяснимо-
го. Меньше всего наш герой [видит] во фразе "Просто я
вижу", ибо к этому времени глагол "see", использованный
уже четыре раза, лишен своего значения "наблюдения" и
"понимания" (не говоря уже о том, что мы, читатели, са-
ми все еще в неведении, что там можно увидеть из окна,
и это еще больше выхолащивает слово). Теперь это просто
звук, означающий не осмысленный, а бездумный отклик.
Такого рода прорыв добротных слов в чистые, несе-
мантические звуки встретится несколько раз на протяже-
нии этого стихотворения. Следующий взрыв происходит
очень скоро, через десять строчек. Характерно, что слу-
чается это всякий раз, когда актеры оказываются очень
близко друг от друга. Эти взрывы являются вербальными
-- или, лучше, слуховыми -- эквивалентами зияния. Фрост
расставляет их с потрясающим постоянством, что наводит
на мысль о глубокой (по крайней мере, до этой сцены)
несовместимости его персонажей. "Домашние похороны" --
в сущности, изучение, на буквальном уровне, трагедии,
которая описывается как возмездие персонажам за наруше-
ние территориальных и ментальных императивов друг друга
при рождении ребенка. Теперь, когда ребенок утрачен,
эти императивы жестоко отыгрываются: они требуют свое-
го.
IV
Становясь рядом с женщиной, мужчина обретает ее
точку обзора. Поскольку он выше, а также потому, что
это [его] дом (как показывает 23-я строка), где он про-
жил, вероятно, большую часть жизни, он должен, видимо,
несколько склониться, чтобы проследить ее взгляд. Сей-
час они рядом, почти в интимном соседстве на пороге
своей спальни наверху лестницы. У спальни есть окно; у
окна есть вид. И здесь Фрост дает самое ошеломляющее
сравнение в этом стихотворении, а возможно, и во всем
творчестве:
The wonder is I didn't see at once.
I never noticed it from here before.
I must be wonted to it -- that's the reason
The little graveyard where my people are!
So small the window frames the whole of it.
Not so much larger than a bedroom, is it?
There are three stones of slate and one of
marble,
Broad-shouldered little slabs there in the
sunlight
On the sidehill. We haven't to mind [those].
But I understand: it is not the stones,
But the child's mound --
Отсюда я ни разу не глядел.
Проходишь мимо, где-то там, в сторонке,
Родительское кладбище. Подумать --
Все уместилось целиком в окне.
Оно размером с нашу спальню, да?
Плечистые, приземистые камни,
Гранитных два и мраморный один,
На солнышке стоят под косогором...
Я знаю, знаю: дело не в камнях --
Там детская могилка...
"Родительское кладбище" порождает атмосферу неж-
ности, и именно с этой атмосферы начинается "Все умес-
тилось целиком в окне" лишь для того, чтобы уткнуться в
"Оно размером с нашу спальню, да?" Ключевое слово здесь
"frames" (обрамляет), которое выступает сразу в двух
ролях: рамы окна и картины на стене спальни. Окно как
бы висит на стене спальни, подобно картине, и картина
эта изображает кладбище. Однако "изображение" означает
уменьшение до размера картины. Представьте такое у себя
в спальне. Впрочем, в следующей строчке кладбище восс-
тановлено в своих реальных размерах и тем самым уравне-
но со спальней. Это уравнивание настолько же психоло-
гично, насколько оно пространственно. Невольно герой
проговаривает итог этого брака, намеченный мрачным ка-
ламбуром заглавия. И также невольно это "да?" приглаша-
ет героиню признать этот итог, почти подразумевая ее
согласие.
Как будто этого недостаточно, следующие две строч-
ки с их камнями из мрамора и гранита продолжают усили-
вать это сравнение, уподобляя кладбище, населенное
семьей маленьких неодушевленных детей, убранной постели
с пентаметрически разложенными подушками: "Плечистые
приземистые камни". Это Пигмалион неистовый, исступлен-
ный. Налицо его вторжение в сознание женщины, нарушение
ее внутреннего императива -- если угодно, превращение
его в кость. И дальше эта рука, все превращающая в
кость -- на самом деле в камень, -- тянется к тому, что
для героини еще живо и осязаемо, что памятно:
Я знаю, знаю: дело не в камнях --
Там детская могилка...
Дело не в том, что контраст между камнями и могил-
кой слишком резок, хотя он именно таков; для нее невы-
носима способность -- или скорее попытка героя -- выго-
ворить это. Ибо, сумей он найти слова для выражения ее
душевной боли -- и эта могилка присоединится к камням
на "картине", сама станет плитой, станет подушкой их
постели. Более того, это будет равнозначно полному про-
никновению в ее самое сокровенное: святая святых ее ду-
ши. А он уже близок к этому:
"Don't, don't, don't don't," she cried.
She withdrew, shrinking from beneath his arm
That rested on the banister, and slid down-
stairs;
And turned on him with such a daunting look,
He said twice over before he knew himself:
"Can't a man speak of his own child he's
lost?"
-- Нет! Не смей! --
Рука его лежала на перилах --
Она под ней скользнула, вниз сбежала
И оглянулась с вызовом и злобой,
И он, себя не помня, закричал:
-- Мужчина что, не смеет говорить
О собственном умершем сыне -- так?
Стихотворение набирает мрачную силу. Четыре
"Don't" (не надо) -- это несемантический взрыв, разре-
шающийся зиянием. Мы так поглощены повествованием --
ушли в него с головой, -- что, возможно, позабыли, что
это все же балет, все же последовательность кадров, все
же прием, срежиссированный поэтом. В сущности, мы почти
готовы принять сторону одного из наших персонажей, да?
Я предлагаю вытащить себя из этого за уши и на минутку
задуматься, что все вышеизложенное говорит нам о поэте.
Представьте, к примеру, что сюжет был взят из опыта --
скажем, потери первенца. Что до сих пор прочитанное го-
ворит вам об авторе, о его восприимчивости? Насколько
он поглощен рассказом и -- что более важно -- до какой
степени он свободен от него?
Будь это семинар, я ждал бы ответа от вас. Пос-
кольку мы не на семинаре, я должен ответить на этот
вопрос сам. И ответ таков: он чрезвычайно свободен. Пу-
гающе свободен. Сама способность использовать -- обыг-
рывать -- материал такого рода предполагает существен-
ное отстранение. Способность превращать этот материал в
пентаметрическую монотонность белого стиха еще больше
это отстранение увеличивает. Подмеченная связь между
семейным кладбищем и супружеской постелью спальни --
еще больше. В сумме все это дает значительную степень
отстранения. Степень, которая фатальна для человеческо-
го взаимодействия -- и делает общение невозможным, ибо
общение требует равного. В этом затруднительность поло-
жения Пигмалиона vis-a-vis его модели. Дело не в том,
что рассказанная история автобиографична, а в том, что
стихотворение -- это автопортрет поэта. Вот почему ли-
тературные биографии внушают отвращение -- они все уп-
рощают. Отсюда мое нежелание снабдить вас действитель-
ными данными о жизни Фроста.
Куда же он идет, вы спросите, со своим отстранени-
ем? Ответ: к полной автономии. Именно оттуда он подме-
чает сходство несходного, оттуда он имитирует разговор-
ную речь. Хотели бы вы познакомиться с мистером Фрос-
том? Тогда читайте его стихи, ничего больше; иначе вам
грозит критика снизу. Хотели бы вы быть им? Хотели бы
вы стать Робертом Фростом? Возможно, вам следует это
отсоветовать. Подобная восприимчивость оставляет мало
надежд на подлинное человеческое соединение или родс-
твенную душу; и в самом деле, на Фросте очень мало та-
кого рода романтической пыли, обычно свидетельствующей
о подобных надеждах.
Вышесказанное -- не обязательно отступление, но
давайте вернемся к строчкам. Вспомним о зиянии и что
его вызывает, и вспомним, что это прием. В сущности,
автор сам напоминает нам об этом строчками
Рука его лежала на перилах --
Она под ней скользнула, вниз сбежала...
Это еще и балет, и режиссерские указания включены
в текст. Самая красноречивая деталь здесь -- перила.
Почему автор вставляет их здесь? Во-первых, чтобы вновь
ввести лестницу, о которой к данному моменту мы могли
позабыть, оглушенные крушением спальни. Во-вторых, пе-
рила предваряют скольжение героини вниз, ибо каждый ре-
бенок использует перила, чтобы скатиться вниз. "И огля-
нулась с вызовом и злобой" -- еще одна ремарка. "He sa-
id twice over before he knew himself" (Он понял, лишь
произнеся дважды):
-- Мужчина что, не смеет говорить
О собственном умершем сыне -- так?
Это замечательно хорошая строчка. Она имеет ярко
разговорный характер пословицы. И автор определенно
знает, как она хороша. Поэтому, пытаясь скрыть понима-
ние этого и в то же время усилить воздействие, он под-
черкивает нечаянность реплики: "Он понял, лишь произне-
ся дважды". На уровне буквального повествования перед
нами мужчина, который подыскивает слова, пораженный пу-
гающим взглядом женщины. Фросту необычайно удавались
такие одностишия -- формулы, почти пословицы. "Жить в
обществе значит прощать" (в "Звездоколе") или "Лучший
выход всегда насквозь" ("Слуга слуг"), к примеру. И че-
рез несколько строк мы снова с этим столкнемся. Подоб-
ное у него встречается чаще всего в пентаметрах; пятис-
топный ямб вполне благоприятствует таким штукам.
Вся эта часть стихотворения от "Нет! Не смей!" и
дальше, очевидно, имеет некоторые сексуальные коннота-
ции: она его отвергла. Не в этом ли вся история с Пиг-
малионом и его моделью? На буквальном уровне "Домашние
похороны" развиваются по линии "труднодосягаемого". Од-
нако я не думаю, что Фрост, при всей своей автономии,
сознавал это. (Во всяком случае, "К северу от Бостона"
не обнаруживает какого-либо знакомства с фрейдовской
терминологией.) И если это было неосознанно, то подход
такого рода несостоятелен. Тем не менее нам следует
иметь в виду и его, когда мы приступаем к основной час-
ти этого стихотворения:
-- Не ты. Куда девалась шляпа? Бог с ней.
Я ухожу. Мне надо прогуляться.
Не знаю точно, смеет ли мужчина.
-- Эми! Хоть раз не уходи к чужим.
Я за тобой не побегу. -- Он сел,
Уткнувшись подбородком в кулаки. --
Родная, у меня большая просьба...
-- Просить ты не умеешь.
-- Научи! --
В ответ она подвинула засов.