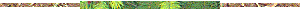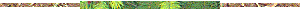Перечитывая ахматовские письма:
осень 1991
СВ: Иосиф, я хотел бы поговорить с вами о трех
письмах Ахматовой, адресованных вам в ссылку и некото-
рое время тому назад опубликованных...
ИБ: Я их не перечитывал...
СВ: Первое из них - от 20 октября 1964 года...
ИБ: Боже!
СВ: ...и Ахматова говорит там, что ведет с вами
днем и ночью бесконечные беседы, из которых вы должны
знать обо всем, что случилось и что не случилось. Это
что, намек на ее прославленное умение вести разговоры,
так сказать, "поверх барьеров"?
ИБ: До известной степени. По-моему, это даже не
намек, а просто констатация всем нам известного факта.
СВ: Ахматова, кстати, об этом же говорила в своих
воспоминаниях о Модильяни: "...его больше всего порази-
ло во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и
прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли".
И в письме к вам она делает вас своим как бы медиумом:
вы "должны знать", что она о вас думает. Это правильная
интерпретация данного текста?
ИБ: Более или менее - да.
СВ: То есть Ахматова считает, что для поэтов чте-
ние чужих мыслей и прочие психологические "трюки" - де-
ло обычное, так?
ИБ: Да. Ведь мы, поэты, все про все знаем.
СВ: И дальше в этом письме Ахматова цитирует два
стихотворных отрывка из своих же произведений. Причем
первый из "Путем всея земли", ее так называемой "ма-
ленькой поэмы". Это для меня - одно из самых загадочных
ахматовских произведений. Оно ведь сначала называлось
"Китежанка", то есть обитательница легендарного града
Китежа, ушедшего под воду и тем спасшегося от разруше-
ния татарами. Я сейчас, как вы знаете, пишу историю
культуры Петербурга. И мне кажется, что для Ахматовой
Петербург и был в каком-то смысле этим легендарным Ки-
тежем. То есть культура Петербурга была провидением
"спрятана под воду" и таким образом спасена от уничто-
жения.
ИБ: Да, это один из возможных вариантов истолкова-
ния.
СВ: В письме к вам Ахматова из "Путем всея земли"
приводит, в частности, две строчки: "И вот уже славы /
высокий порог..." И добавляет, что это уже "случилось".
Имеется в виду ваш суд, ваша известность на Западе?
ИБ: Да, это одна из тем, которые обсуждались в на-
ших беседах. Ведь в то время планировалась поездка Ах-
матовой в Италию, где ей должны были вручить литератур-
ную премию. А затем последовала поездка в Англию, в
Оксфорд. Ахматова к этим поездкам относилась чрезвычай-
но серьезно. Либо это цитата может быть связана с тем,
что мы - как бы это сказать? - стали знамениты, да? То
есть это уже "случилось", произошло, обрело реальность.
Вот эти две, в общем-то, разные вещи Ахматова, вероят-
но, и имеет в виду.
СВ: Когда Ахматова обсуждала суд над вами с близ-
кими людьми, то любила повторять, что власти своими ру-
ками "нашему рыжему создают биографию". То есть она
смотрела на эти вещи трезво, понимая, что гонения соз-
дают поэту славу, что это - обратная сторона медали.
ИБ: Да-да! И еще она любила цитировать - ну просто
всем и вся - две строчки: "Молитесь на ночь, чтобы вам
/ Вдруг не проснуться знаменитым". Не знаю, это ее сти-
хи или чьи-то чужие?
СВ: Если не ошибаюсь, ее... Но в том же письме к
вам Ахматова говорит и о том, что "не случилось", цити-
руя из стихотворного отрывка под названием "Из Дневника
путешествия". А в этом отрывке, кстати, есть слова о
"мертвой славе". И еще такие слова - "твои живые руки".
Это что, намек на те же обстоятельства? Ведь Ахматова,
насколько я понимаю, ни одного слова ни в одном письме
к кому бы то ни было просто так, не обдумавши, не писа-
ла. А тут - письмо к опальному поэту, в ссылку. И сти-
хотворный этот отрывок сочинен в том же 1964 году. Он
тоже связан с вашим процессом?
ИБ: Вы знаете, Соломон, за давностью лет мне труд-
но фантазировать по этому поводу, но надо надеяться,
что "твои живые руки" - это не ко мне обращение. Хотя,
может быть... Единственное соображение, которое мне
приходит в голову в связи с этим отрывком: его писал
все-таки сильно больной человек, да? Сердце... И, может
быть, она радуется, что не умерла. Что это "не случи-
лось"...
СВ: В этом же письме к вам Ахматова приводит свою
строчку: "Светает - это Страшный суд". И дальше она пи-
шет о присущем вам "божественном слиянии с природой".
Это что - утешение по поводу вашей ссылки? Или нечто
более философское? Помнится, она в конце пятидесятых
годов записала, что природа давно напоминает ей только
о смерти...
ИБ: Нет, я не думаю, что аллюзии в данном случае
идут так далеко. И не думаю, что Ахматова здесь замыка-
ется на свои собственные стихи. Мне кажется, что ее
слова о Страшном суде - это комментарий по поводу ре-
альности. Это, увы, реальность.
СВ: В следующем послании к вам - туда же, в Но-
ренское... Кстати, как правильно - Норенская или Но-
ренское?
ИБ: Норенская...*
СВ: ...так вот, в этом письме, от 15 февраля 1965
года, Ахматова сообщает, что послала вам свечи из Сира-
куз...
ИБ: Да, я помню! Это были две свечи, которые то ли
ко мне приехали сами по почте, то ли их кто-то привез -
я уж не помню. Из Сиракуз, совершенно замечательной
красоты - знаете, как их делают на Западе: прозрачные
свечи. Архимедовские, понятно.
СВ: И там же она пишет, что вспоминает "нашу пос-
леднюю осень с музыкой, колодцем и Вашим циклом сти-
хов"...
ИБ: О каком цикле стихов речь идет - ей-богу, не
помню. Колодец - это, вероятно, колодец в Комарове, из
которого я таскал ей воду. А музыка - это о пластинках,
которые я ей в Комарово привозил. Их была масса -
Гайдн, Гендель, Вивальди, Бах, Моцарт, "Стабат Матер"
Перголези, и особенно ею любимые две оперы: "Коронация
Поппеи" Монтеверди и "Дидона и Эней" Перселла. Меня,
кстати, не то чтобы озадачило, но несколько смутило то
место в воспоминаниях Наймана об Ахматовой, где он опи-
сывает ее музыкальные увлечения в шестидесятые годы.
Там получается, что он, Найман, имел к этому какое-то
отношение. Но здесь Толяй явно напутал, потому что,
насколько мне помнится, все эти пластинки к Ахматовой
возил один только я. И в диком количестве, между про-
чим.
СВ: Это, кстати, подтверждается самой Ахматовой в
ее третьем письме к вам, от 10 июля 19б5 года, все в ту
же Норенскую: "Слушаю привезенного по Вашему совету
Перселла ("Дидона и Эней"). Это нечто столь могущест-
венное, что говорить о нем нельзя"... Но я хотел спро-
сить вас вот о чем. В двух из трех писем к вам Ахматова
цитирует ваш афоризм: "главное - это величие замысла".
Это ваше высказывание стало, между прочим, весьма попу-
лярным в творческих кругах; на него ссылаются кстати и
некстати, иногда - в ироническом смысле. Вы не помните,
в связи с чем оно возникло?
ИБ: Это как раз я очень хорошо помню. Мы сидели
как-то с Ахматовой и она говорит: "Иосиф, что делать
человеку (имелось в виду, конечно, поэту, но мы слово
"поэт" почти не употребляли, потому что Ахматова этого
не одобряла, приговаривая: не понимаю я этих больших
слов - "поэт", "бильярд") - так вот, что делать челове-
ку, если он знает себя наизусть, все свои любимые прие-
мы и так далее. Какой у него выход из этого положения?"
И я с бухты-барахты ответил: "Анна Андреевна, главное -
это величие замысла!" Я тогда, помнится, подумал, что
если ты ставишь перед собой большую задачу, то она вы-
водит тебя на новые технические приемы. И эта мысль Ах-
матовой очень понравилась. Потому что она, вероятно,
думала о себе, когда задавалась этим вот вопросом о
творческой инерции. Думала о своей работе над "Поэмой
без героя". И мой ответ пришелся ей очень кстати. Ну а
потом в беседах с ней я эту мысль развивал - говорил
ей, что даже если большой замысел в итоге проваливает-
ся, то игра все равно стоила свеч. И я думаю, что здесь
я прав.
СВ: В одном из писем к вам Ахматова хвалит ваши
стихи на смерть Элиота. Говорит, что ей светло от мыс-
ли, что эти стихи существуют. Письмо написано в феврале
1965 года, а вы это стихотворение сочинили в январе. Я
вижу, что стихи ваши довольно быстро добирались из
ссылки в Ленинград...
ИБ: Да, об этом друзья заботились.
СВ: В другом письме Ахматова сообщает вам о том,
что вместе с Найманом заканчивает перевод стихов Джако-
мо Леопарди. Книжку этих переводов, вышедших в 1967 го-
ду, мне в свое время подарил Найман. Там часть стихов
значится как переведенная Ахматовой, а часть идет за
подписью Наймана. Но в своей книге об Ахматовой Найман
настаивает, что распределение этих переводов под той
или другой фамилией очень условно, поскольку делались
они совместно. Более того, Найман пишет, что в том, что
касается переводов Ахматовой, вообще нельзя ручаться за
ее авторство в том или ином конкретном случае. Посколь-
ку Ахматова часто пользовалась помощью тех или иных ли-
тературных сотрудников. И, дескать лучше вообще в соб-
рания сочинений Ахматовой ее переводов не включать. А
вы как считаете?
ИБ: Думаю, это вопрос сложный. Начать с того, что
когда имеет место сотрудничество и вы делаете это в че-
тыре руки, то, действительно, уже не помнишь, кто сде-
лал что. Что касается переводов из Леопарди, то пола-
гаю, что Толька, наверное, отнесся к этому делу с боль-
шим воодушевлением, чем Ахматова. Подумайте сами - на
дворе, с Божьей помощью, 1965 год! Помимо всего проче-
го, для Наймана это еще было и приобщение к культуре.
То есть ему наверняка переводить Леопарди было интерес-
ней, чем Ахматовой. И поэтому, может быть, он в этом
сборничке сделал больше. А может быть, он немножечко
преувеличивает. Хотя, в конце концов, это неважно - кто
именно перевел то или иное стихотворение. Главное, что
Ахматова этим занималась серьезно. И эту серьезность
следовало бы уважать.
СВ: Вы ведь в молодости тоже довольно много пере-
водили: стихи поляков - Галчинского, Норвида, Милоша;
итальянцев - Умберто Саба, Сальваторе Квазимодо. Пере-
водили из Джона Донна. И даже перевели пьесу Томаса
Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы"...
ИБ: Хорошая пьеса! И перевод, по-моему, тоже ниче-
го...
СВ: Я об этом переводе потому вспомнил, что на
днях в Нью-Йорк приезжает русскоязычный театр из Израи-
ля и они будут показывать эту пьесу Стоппарда именно в
вашем переводе. Вы пойдете на спектакль?
ИБ: Ни в коем случае! Могу себе представить, что
они там наворотят!
СВ: Ахматова в письме к вам хвалит ваши рисунки,
даже сравнивает их с известными иллюстрациями Пикассо к
"Метаморфозам" Овидия. Должен сказать, что я тоже пок-
лонник ваших рисунков. Двойной портрет, который вы сде-
лали с меня и Марианны, висит у нас на стене, обрамлен-
ный, и я хотел спросить - вам никогда не приходило в
голову собрать свои рисунки и, быть может, издать их?
ИБ: Но ведь этих рисунков у меня нет. И если, ска-
жем, говорить о портретах, то я уж не помню, кого и
когда я рисовал. Единственный человек, кто, как я знаю,
пытался собирать мои рисунки, это Эра Коробова, бывшая
жена Наймана. Она даже статью об этих рисунках напеча-
тала в "Русской мысли". Кстати, недавно я увидел где-то
воспроизведенным мой портрет Сережи Довлатова. И мне
этот рисунок ужасно понравился! По-моему, ужасно похож!
СВ: Вероятно, вы увидели его на обложке книги Дов-
латова, изданной в Москве. Об этом портрете Довлатов,
кстати, любил рассказывать такую историю. Он показал
его своему знакомому американцу, который заметил, что
нос нарисован не совсем точно. На что Довлатов заявил:
"Значит, придется мне сделать пластическую операцию но-
са"... Я еще видел ваш портрет Лосева, тоже очень похо-
жий. Он воспроизведен в его книге стихов.
ИБ: Новая карьера!
СВ: Но вернемся к разговору о письмах Ахматовой к
вам... В одном из них она цитирует следующее свое чет-
веростишие:
Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.
Опять-таки, вы хорошо знаете, что Ахматова просто
так, по наитию или прихоти, своих стихов в письмах при-
водить не могла. Это всему ее облику противоречило бы,
всем ее привычкам. Она, как известно, посвящения на
своих книгах шлифовала подолгу, а потом получалось:
"такому-то - от Ахматовой". И она, конечно, превосходно
понимала, что все ее сохранившиеся письма когда-нибудь
будут опубликованы и тщательнейшим образом исследованы
и прокомментированы. Мне иногда даже кажется, что неко-
торые из своих писем Ахматова сочиняла в расчете именно
на такие - тщательные, под лупой - исследования будущих
"ахматоведов". Почему же это четверостишие появилось в
письме к вам?
ИБ: Нет, мне как-то ничего в голову не приходит...
Может быть, имеются в виду ее отношения с Исайей Берли-
ном? Но у него совсем не безумные глаза. У кого же из
ее друзей были безумные глаза? Может быть, у Недоброво?
По-моему, безумные глаза были отчасти у Гумилева, а от-
части у Пунина. И еще, вероятно, у Шилейко.
СВ: А уж совсем безумные они были у Владимира Гар-
шина, не так ли? Тот просто рехнулся!
ИБ: Вот видите, еще лучше. Да? Но более существен-
но здесь другое. Я уж не знаю, почему Ахматова именно
это четверостишие процитировала в письме именно ко мне.
Но лично я все эти ее "речи-встречи" и "речи-невстречи"
воспринимаю как проходные рифмы, вроде как "ра-
дость-младость" у Пушкина. И потому я эти ахматовские
"речи-встречи-невстречи" одно от другого не отличаю.
СВ: Найман пишет, что некоторые свои стихи Ахмато-
ва "как будто находила". И приводит в пример то самое
четверостишие, которое Ахматова цитировала в письме к
вам. В этом же письме Ахматова объясняет, что эти стихи
были ею забыты и потеряны, а теперь вдруг "вынырнули"
из ее бумаг. Я в связи с этим вспоминаю историю, кото-
рую где-то прочел - об одном русском аристократе. Он,
когда у него было много денег, расшвыривал золотые мо-
неты по своему кабинету. А потом, когда наступали худые
времена, ползал по полу и выковыривал из разных щелей
закатившиеся туда золотые. Вам не кажется, что и Ахма-
това создала себе немножко похожий ритуал - я имею в
виду, в творческом плане?
ИБ: Нет-нет! На самом деле это просто, если хоти-
те, хаос в бумагах, да? При том, что у Ахматовой осо-
бенного хаоса в этих делах не наблюдалось, она, тем не
менее, всегда куда-то что-то закладывала. В Комарове
она, помнится, сидела за своим столиком - у нее был та-
кой высокий столик, который был ей по грудь или, может
быть, чуть-чуть пониже. У этого столика была такая пол-
ка внизу, где лежали всякие папки, бумажки и тому по-
добное. И у Ахматовой было обыкновение как бы вслепую
шарить по этой полке. И вытаскивать время от времени ту
или иную бумажку, на которой вполне могло оказаться ка-
кое-то позабытое стихотворение. И еще у нее были тетра-
ди, в которые она записывала всякую всячину; стихи,
прозу, черновики писем, выписки всякого рода, адреса...
И вполне возможно, что, перелистывая такую тетрадь, она
могла наткнуться на какой-то свой стих сравнительно
давнего времени. И тогда она говорила, что вот это сти-
хотворение "вынырнуло".
СВ: Ну, Ахматова с этими "вынырнувшими" своими
стихотворениями и более сложные игры затевала. Она в
свои тетради в пятидесятые и шестидесятые годы вписыва-
ла стихи, под которыми ставила даты " 1909" и " 1910".
И так их и печатала как свои ранние стихи. Кстати, в XX
веке, когда в искусстве стал важным приоритет в области
художественных приемов, такие номера многие откалывали.
Малевич, например, приехавший в Берлин в конце двадца-
тых годов, написал там целый цикл картин, датированных
предреволюционными годами...
ИБ: Это вполне может быть! Прежде всего, за этим
может стоять нормальное кокетство. Затем - соперничест-
во с кем-нибудь, с какой-нибудь идиоматикой или с каки-
ми-нибудь мыслями, которые в свое время были высказаны
современниками. И когда Ахматова делала подобное, то
она, я думаю, даже имела право на это. Потому что она,
может быть, говорила себе: да ведь я про это раньше ду-
мала, чем икс или игрек, я раньше это нашла. Не говоря
о том, что то или иное стихотворение могло быть просто
дописано позже. Скажем, две-три строфы существовали еще
тогда, а вот сейчас еще две добавились. Чего же я буду
датировать более поздним временем, когда я могу датиро-
вать более ранним? Это еще и приятнее, да? И это ни в
коей мере не ложь, потому что никто никого здесь не об-
манывает. И еще одно, последнее обстоятельство. Был пе-
риод, когда Ахматова стихов писала довольно мало. Или
даже почти ничего не писала. Но ей не хотелось, чтобы
про нее так думали. По крайней мере, самой ей не хоте-
лось тогда, чтобы так это было. Нужно сказать, что во-
обще датировка стихов Ахматовой - это хронологический
бред. Юная Ахматова начала с удивительно зрелой ноты. И
чисто стилистически хронологию многих ее стихов устано-
вить чрезвычайно трудно. Что можно проследить - так это
сентиментальную хронологию, то есть диалектику и разви-
тие сентиментов. Тут она достигала все большей глубины.
Но во многих случаях ей с самого порога приходили в го-
лову вещи, которые по духу принадлежат к гораздо более
позднему времени. Возьмите что угодно, скажем, вот это:
Чем хуже этот век предшествующих?
Разве Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.
Конечно, под этим стихотворением стоит дата - 1919
год. Но на самом деле невозможно сказать - когда это
написано. Это тот язык и стиль, который, в общем-то, не
претерпевает существенного развития. Это на все време-
на.
СВ: Но ведь Ахматова всегда говорила, что хроноло-
гия в ее стихах очень важна. И, я помню, сердилась на
иностранные издания своих стихов, в которых даты под
стихами опускались: "Они хотят все это выдать за недав-
но написанное".
ИБ: Конечно, сердилась! Но она, как вы справедливо
заметили, еще играла и во всякие дополнительные игры.
Когда к ней, к примеру, приходила какая-нибудь девуш-
ка-исследователь и начинался спор. Потому что Ахматова
какое-нибудь свое стихотворение относила к более ранне-
му времени. Так что исследователь при составлении ака-
демического свода стихов Ахматовой столкнется с допол-
нительным трудом. Ему придется критически проверить да-
ты, проставленные автором.
СВ: А вы сами, Иосиф, не собираетесь ли разобрать-
ся когда-нибудь в своих ранних стихах? И решить твердо
- что из них следует печатать, а что - нет?
ИБ: Вы знаете, Соломон, наверное, это надо сде-
лать... Но руки не доходят. Или, вернее, голова. И во-
обще, все эти ранние стихи - они находятся в Париже.
Здесь, в Нью-Йорке, у меня их просто нет.
СВ: Ахматова говорила, что проза всегда казалась
ей "и тайной и соблазном". Она повторяла: "Я с самого
начала все знала про стихи - я никогда ничего не знала
о прозе". А вы что думаете о прозе Ахматовой? Замечу,
кстати, что в одном из писем к вам она изумительно опи-
сывает путешествие по Франции в 1965 году: какой она
увидела ее из окон вагона...
ИБ: Прозу Ахматовой я обожаю! Ей я это сказал пер-
вой, но потом продолжал утверждать всю жизнь: лучшая
русская проза в XX веке написана поэтами. Ну, за исклю-
чением, быть может, Платонова. Но это другие дела. И
при том, что прозы у Ахматовой написано мало, то, что
существует - это совершенно замечательно: пушкинские
штудии, воспоминания о Модильяни и Мандельштаме, мему-
арные записи. И помимо содержания, их интерес - в со-
вершенно замечательной стилистике. По ясности - это об-
разцовая русская проза, настоящий кларизм. У нее просто
нет лишних слов.
СВ: Но Ахматова также очень мучилась, работая над
своей прозой. Она писала: "В приближении к ней чудилось
кощунство, или это означало редкое для меня душевное
равновесие". Ахматова добавляла, что она прозу "боялась
или ненавидела". И помню, в разговорах с ней все время
проскальзывала какая-то безумная амбивалентность к
собственным прозаическим опытам.
ИБ: Амбивалентность в связи с чем?
СВ: Мне кажется, Ахматова боялась собственной
идеи: написать большую автобиографическую книгу. И она
никак не могла нащупать для этой планируемой книги нуж-
ную форму. Похожее приключилось с Юрием Олешей, который
долго искал форму для своей последней книги автобиогра-
фической прозы. Искал в невероятных мучениях, подходил
к этому то с одной стороны, то с другой. А кончилось
тем, что после его смерти нашли груду разрозненных
фрагментов. Эту груду другие люди попытались собрать в
единое целое. И я помню, как в середине шестидесятых
годов появилась книга Олеши, изданная посмертно, под
названием "Ни дня без строчки". В предисловии к ней
Виктор Шкловский попытался объявить эту книгу большой
творческой удачей Олеши. Но книги-то не было; все это
так и осталось грудой фрагментов, хоть и блистательных.
Производивших на самом деле довольно грустное впечатле-
ние. Не кажется ли вам, что нечто похожее произошло с
Ахматовой? Книги-то нет, есть собрание замечательных
отрывков, которые можно тасовать как угодно. Что уже и
происходит, кстати. Скажем, исследователи собирают в
одно целое те или иные варианты воспоминаний Ахматовой
о Мандельштаме. И ругаются по этому поводу между со-
бой... Разве не так?
ИБ: До известной степени так, если оценивать ситу-
ацию постфактум. Но на самом деле фрагментарность - это
совершенно естественный принцип, присутствующий в соз-
нании любого поэта. Это принцип коллажа или монтажа,
если угодно. Протяженная форма - это то, чего поэт
просто по своему темпераменту не выносит. Поэту с про-
тяженной формой совладать труднее всего. И это не пото-
му, что мы люди короткого дыхания, а потому, что в поэ-
тическом бизнесе принцип конденсации - чрезвычайно важ-
ный. И если ты начинаешь писать подобной конденсирован-
ной фразой, то все равно, как ни крути, получается ко-
ротко.
СВ: А как же "Доктор Живаго" Пастернака?
ИБ: Можно только удивляться Борису Леонидовичу! Ну
что это за идея для поэта - писать именно роман: с вве-
дением, первой частью, второй, всеми этими описаниями,
колоссальными абзацами... Ахматовой же, напротив, вовсе
не хотелось становиться романистом. Она все-таки была
именно поэт, причем старой школы. Настоящий поэт прозу
пишет по обязанности, по необходимости. И единственное,
что Ахматова писала по внутреннему побуждению - это
пушкинские штудии.
СВ: Но ведь и эти отрывки и фрагменты, которые
должны были составить мемуарную книгу, разве они не вы-
рывались из Ахматовой именно по внутреннему побуждению?
ИБ: Ну понятно. Но вы должны учесть, Соломон, нас-
колько этим было опасно заниматься. Заниматься воспоми-
наниями любого рода было в Советском Союзе опасно, а
для Ахматовой - вдвойне. Власти очень боялись того, что
она могла бы вспомнить. А помнила Ахматова абсолютно
все. И это была та поразительная черта, которая Ахмато-
ву во многом характеризовала. Потому что она не только
помнила - кто, когда и с кем, скажем, встретился. Но
она помнила дни недели, время дня. Сколько раз я на это
нарывался, и это всегда меня ошеломляло. Потому что это
не воспитание другое, а просто другая биология. Которая
другим даже могла показаться патологией. Здесь, на За-
паде, я знаю только одного человека, который в этом
смысле похож на Ахматову: это Исайя Берлин. Вот только,
может быть, с датами у него не очень, да? А так - все
совпадает.
СВ: Да, Ахматова в разговоре всегда протягивала
параллели - что случилось пятьдесят лет назад, двадцать
лет, десять. Разговаривая с ней, ты и сам вовлекался в
эту игру - переклички событий, бесконечные круглые да-
ты...
ИБ: Ну да! И это то, чего ни один исследователь ее
творчества просечь не может, потому что мы - люди уже
другой культуры, у нас этой способности к соединению
событий во времени и пространстве уже нет. Потому что
подобный настрой возможен при определенной степени - не
то чтобы покоя, но другого жизненного ритма. Это не та
насыщенность событиями, явлениями и прочим, которая об-
рушилась на нас. И я думаю, что в России дореволюцион-
ной, и даже после всей этой замечательной революции,
этот другой ритм все же до известной степени определял
бытие человека. Потому что подобный ритм закладывается
другой эпохой - концом ХIХ века, началом двадцатого.
СВ: Когда Ахматова говорила о своей будущей мему-
арной книге, то называла ее двоюродной сестрой "Охран-
ной грамоты" Пастернака и "Шума времени" Мандельштама.
То есть она в какой-то степени ориентировалась на эти
две книги, к тому времени уже классические - если не по
официальной шкале, то среди интеллигенции. А как бы вы
сравнили мемуарную прозу Ахматовой с "Охранной грамо-
той" или "Шумом времени"?
ИБ: Обе эти книжки - и Пастернака, и Мандельштама
- совершенно замечательные. Просто мне "Шум времени"
дороже, да? Но если взглянуть на них издали - а издали
мы и смотрим - то между этими двумя книгами есть даже
нечто общее в фактуре, в том, как используются детали,
как строится фраза. И я думаю, что если Ахматова назы-
вала свою планируемую книгу "двоюродной сестрой" этих
двух, то она на самом-то деле указывала на истинное по-
ложение вещей. На то, что происходило в ее авторском
сознании. Потому что я думаю, что таким образом она пи-
сать прозу была не в состоянии. Ее проза ни в коей мере
не могла быть подобной ни мандельштамовской, ни пастер-
наковской. И она осознавала это. Она осознавала преиму-
щество их прозы и, видимо, до известной степени ее гип-
нотизировала эта перспектива - что так она не напишет.
СВ: Да, Ахматова так и писала о своей книге: "Бо-
юсь, что по сравнению со своими роскошными кузинами она
будет казаться замарашкой, простушкой, золушкой..."
ИБ: И вот эта боязнь ее до известной степени и ос-
танавливала. Тормозила ее работу. Потому что Ахматова
совершенно феноменально работала с деталями, но
опять-таки, она была прежде всего поэт - в том смысле,
что каждую деталь она подавала бы в одной фразе. В то
время как Пастернак или Мандельштам, когда они натыка-
ются на деталь или на метафору, то ее, как правило,
разворачивают. Как розу. В их творчестве ты все время
ощущаешь центробежную силу. Которая присутствует в сти-
хотворении, когда оно как бы само себя разгоняет.
СВ: А Ахматова, наоборот, жаловалась, что когда
она пишет, то видит за своими словами гораздо больше,
чем выливается на страницу. И она боится, что читатель
всех тех запахов и шумов, которые ей представляются,
когда она записывает свои воспоминания, не почувствует.
ИБ: Совершенно верно. Потому что главная феня Ах-
матовой - это афористичность. Она поэт в высшей степени
афористический. Об этом сама длина ее стихотворений
свидетельствует. Ахматова никогда не вылезает на третью
страницу. Поэтому и к истории у нее отношение афористи-
ческое. А когда она обращается к современности, то
здесь ее интересует не столько она сама, сколько выра-
зительность современного языка, современных выражений.
Люди, мало с ней знакомые, привыкли думать об Ахматовой
как о царственной даме, которая говорила на языке
Смольного института. В то время как Ахматова обожала
все эти, как говорится, "выражансы": "вас тут не стоя-
ло", "маразм крепчал"...
СВ: Но ведь Ахматова обладала грандиозным даром
составить из небольших фрагментов нечто гораздо боль-
шее, чем их простая сумма. Взять ту же самую поэму "Пу-
тем всея земли" - она составлена из шести вроде бы не
стыкующихся фрагментов, а в целом получилась действи-
тельно поэма, хоть и "маленькая", как Ахматова ее сама
называла. Хотя по-настоящему она производит впечатление
поэмы эпической.
ИБ: Соломон, Соломон, но на этом факте ничего
строить нельзя! Я бы вам даже так сказал: именно будучи
поэтом этих малых форм, этих якобы фрагментов, которые
в конечном счете являлись законченными произведениями -
ведь в любой из них втиснуто содержание ничуть не мень-
шее, чем в роман, да? - конечно же Ахматова испытывала
чисто профессиональный соблазн. В конце концов, все мы
окружены людьми, которые пишут длинные стихи, поэмы,
романы. И лирик, разумеется, начинает рассматривать се-
бя, вольно или невольно, как аномалию. То есть он, мо-
жет быть, и успокаивается, пока он пишет свое стихотво-
рение. Но это только на полдня, да? Потому что, напи-
савши его, он опять начинает относиться к себе даже и с
пренебрежением, до известной степени. Потому что пони-
мает, что другие-то пишут значительно больше. Возникает
такой количественный искус, да? Для тех, кто существо-
вал в рамках дворянской культуры, ситуация не была
столь напряженной. Но как только вы попадаете в разно-
чинную среду, чисто количественный аспект начинает сби-
вать вас с толку. И это очень болезненная ситуация.
СВ: Если бы вы хотели объяснить, что есть Ахматова
в терминах англоязычной поэтической культуры, с кем бы
вы ее сравнили?
ИБ: У нее есть параллель в американской литературе
- Луис Боган. Сходство необычайно сильное. Впервые я
подумал о сходстве между ними, когда увидел фотографию
Боган. На этом снимке Боган была чрезвычайно похожа на
Анну Андреевну. Невероятно похожа! Помню, это меня
просто поразило. Но вообще-то с параллелями всегда сле-
дует быть чрезвычайно осторожными. Надо помнить и о
множестве различий. И о том, что американцы относятся к
своим замечательным людям с несколько большей сдержан-
ностью, нежели мы - к своим.
СВ: Иногда мне кажется, что мы относимся с большим
энтузиазмом даже и к их собственным поэтам. Я всегда
вспоминаю "Песнь о Гайавате" Генри Лонгфелло, невероят-
но популярную в России, за что спасибо ее переводчику
Ивану Бунину. Здесь о Лонгфелло редко вспоминают.
ИБ: Ну, это нормальная опечатка, которая происхо-
дит при любой транскрипции. Ахматова, как мы знаем, лю-
била говорить, что в России знамениты английские или
американские авторы, о которых ни в Англии, ни в Амери-
ке слыхом не слыхивали. И она - несколько несправедливо
- включала в этот список Байрона. Еще, помню, Джека
Лондона.
СВ: В чем же сходство Ахматовой и Боган - в тема-
тике или в технике?
ИБ: И в том, и в другом, причем необычайно силь-
ное. Прежде всего, обе начинают стихотворение с самого
начала. Никакой машинерии. Заметьте, наибольшее впечат-
ление в стихотворении обычно производит последняя стро-
фа, потому что она подготовлена раскачкой всего метра.
Когда вы начинаете читать стихотворение, то довольно
часто вы еще не слышите музыки, а слышите лишь подго-
товку к ней. Это как в опере, да? Певцы разогреваются,
скрипки что-то пиликают. И только потом подымается за-
навес. У Ахматовой и Боган занавес подымается сразу.
Затем следует сказать о тематике. Обе, если говорить об
этом с некоторой мужской прямолинейностью, отнеслись
чересчур всерьез к своим первым романтическим увлечени-
ям. У Ахматовой это - Гумилев. У Боган на протяжении
многих лет был роман с замечательным американским поэ-
том Теодором Ретке. Жизнь Боган тоже повернулась весьма
несчастливо - я бы сказал, жутким образом. Но, по край-
ней мере, это была внутренняя драма, а не внешние обс-
тоятельства, как в случае с Ахматовой. Боган не так уж
и много написала. Впрочем, и Ахматова тоже.
СВ: Есть ли у Боган параллель ахматовской прозе,
ее воспоминаниям, пушкинским штудиям?
ИБ: У Боган литературоведческих изысканий нет. Но
она оставила потрясающий дневник. Это - замечательная
проза. Вообще в англоязычной прозе последних десятиле-
тий, за исключением Фолкнера, мне лично наиболее инте-
ресны именно женщины. Когда я читаю прозу, меня интере-
сует не сюжет, не новеллистика, а просто литература,
писание. Всегда следует разграничивать, с кем вы имеете
дело - с автором романа или с писателем. В счастливых
случаях имеет место совпадение. Но слишком часто роман
становится целью писателя. В то время как целью писате-
ля должно быть нечто иное: выражение мироощущения пос-
редством языка. А вовсе не посредством сюжета. И с этой
точки зрения меня приводит в восторг проза Джин Стаф-
форд, Джанет Фланнер, Джин Рис. Это все замечательные
авторы, по-русски пока что совершенно неизвестные. Их
английский язык удивителен. Почитайте, придете в полный
восторг!
СВ: Вам не кажется, что писания об Ахматовой ее
современников, в общем, разочаровывают? Я имею в виду
теоретические исследования. Работы Эйхенбаума и Виног-
радова, при всем их блеске, посвящены частным вопросам.
Изданная в 1977 году книга Жирмунского, охватывающая
весь путь Ахматовой, довольно-таки поверхностна.
ИБ: С Жирмунским это не совсем так. Я высоко ценю
его статью 1916 года "Преодолевшие символизм". Эта
статья, кстати, нравилась и Ахматовой. Там содержится
одна чрезвычайно существенная мысль. Жирмунский говорит
о Гумилеве, Мандельштаме и Ахматовой и приходит к выво-
ду, что Гумилев и Мандельштам так и остались символис-
тами. В конечном счете, Мандельштам - это гиперсимво-
лист. С точки зрения Жирмунского единственным подлинным
акмеистом являлась именно Ахматова. И я думаю, что это
справедливый тезис.
СВ: Как это ни удивительно, но Ахматова с настой-
чивостью причисляла себя к акмеистской школе, причем до
последних дней. Обыкновенно бывает наоборот: большой
поэт открещивается от породившей его школы. Ахматова же
очень огорчалась, скажем, когда люди, читавшие "Поэму
без героя", чего-то в ней не понимали. Она говорила: "Я
акмеистка. У меня все должно быть понятно". С другой же
стороны, она гневалась, когда ее пытались, как она го-
ворила, "замуровать" в десятых годах. Ахматовой каза-
лось, что на этот счет существует какой-то специальный
заговор. Особенно подозревала она в этом иностранцев и
русских эмигрантов. И поэтому, в частности, так напада-
ла на некоторых эмигрантов.
ИБ: Я понимаю, что вы имеете в виду. Но к наиболее
крупным из русских эмигрантов Ахматова относилась чрез-
вычайно уважительно. Стравинского, например, она обожа-
ла. И я помню несколько разговоров с Ахматовой о Набо-
кове, которого она высоко ценила как прозаика.
СВ: Мне кажется, я не пропустил ничего из того,
что вы здесь, на Западе, публиковали о русских поэтах.
И скажу откровенно, поначалу мне казалось, что вы чуть
ли не сознательно дистанцируетесь от Ахматовой.
ИБ: Ничего подобного, ничего подобного. Просто де-
ло в том, что Ахматова известна здесь чрезвычайно широ-
ко. В то время как Цветаева была почти совсем неизвест-
на. Я старался привлечь к ней внимание. Мандельштам то-
же известен здесь менее, чем Ахматова. Сейчас ситуация
с Мандельштамом меняется. Правда, я не знаю, за что
местные люди хватаются...
СВ: Они хватаются за две книги воспоминаний Надеж-
ды Мандельштам. Насколько я могу судить, проза вдовы
здесь далеко превосходит по популярности все, что было
написано самим Мандельштамом.
ИБ: Нет, это происходит совершенно независимо от
воспоминаний Надежды Яковлевны. Ведь Мандельштам пере-
веден на английский из рук вон плохо, да? Но тем не ме-
нее его образность цепляет поэтов здесь довольно силь-
но.
СВ: Ахматова в переводе теряет гораздо больше, чем
Мандельштам. Ее любовные стихи в переложении на анг-
лийский выглядят безумно сентиментальными. Чего в под-
линнике нет и в помине.
ИБ: Для перевода нужен конгениальный талант, да?
Или, по крайней мере, конгениальное отношение к анг-
лийскому языку. А это, как правило, в среде переводчи-
ков встречается чрезвычайно редко.
СВ: А каково ваше мнение о вышедшем в США полном
собрании стихов Ахматовой в английском переводе Judith
Hemschemeyer?
ИБ: По-моему, это полный кретинизм.
СВ: Между тем редакторы "Нью-Йорк Таймс Бук Ревью"
включили это издание в число лучших книг года. Я пони-
маю, что вряд ли они прочли все стихи, туда включенные
- все-таки два толстенных тома! Но как жест со стороны
американского литературного истеблишмента это, мне ка-
жется, свидетельствует о пиетете по отношению к Ахмато-
вой. И, я думаю, самой Ахматовой узнать о таком было бы
приятно.
ИБ: А я думаю, что нет. Потому что Ахматова знала
английский, да? И ей от этих текстов было бы очень не-
хорошо. Я просто знаю, как Ахматова на такие вещи смот-
рела. И на подобные номенклатурные жесты ей было глубо-
ко наплевать.
СВ: А вы видели недавний американский фильм об Ах-
матовой?
ИБ: Да, видел. Мне прислали пленочку. Это - полный
кошмар.
СВ: Мне тоже показалось, что материал подан совсем
уж примитивным, упрощенным образом. И когда они в этом
фильме дают кусок разговора с вами, то получается силь-
ный перепад. Поскольку вы по поводу Ахматовой высказы-
ваете вполне эзотерические соображения, которые вряд ли
дойдут до того зрителя, на которого этот фильм, по-ви-
димому, рассчитан.
ИБ: Я уж не помню своих соображений в этом фильме,
но помню только, что снимали они меня довольно долго, а
в фильме из этого оказалось всего две-три минуты.
СВ: А как вам понравился американский документаль-
ный фильм о вас? Его недавно показывали по телевидению.
ИБ: Да вы знаете, понравиться такое все равно ведь
не может. Потому что ты смотришь на себя, да? Разве ты
можешь сам себе понравиться? Но несколько моментов в
этом фильме для меня оказались чуть-чуть душераздираю-
щими. Все, связанное с родителями. И особенно, когда
показывают фотографию Ленинграда, сделанную моим отцом.
Уж не знаю, как они ее разыскали.