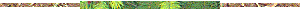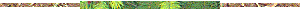
"Доверие к жизни и здравый смысл, в сильнейшей
степени присущие Бродскому, в его организованных текс-
тах прячутся за конденсированную мысль и музыку стиха.
При всей заданной жанром фрагментарности самое ценное в
книге - то общее ощущение, которое возникает при чте-
нии. Это даже не образ... скорее - масса или волна...
Поле мощного магнетического воздействия, когда хочется
слушать и слушаться" (Петр Вайль).
"Диалоги с Бродским" - книга для русской литера-
турной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторс-
ком предисловии об экзотичности для России этого жанра,
важность которого, однако, очевидна. Единственный из-
вестный автору этих страниц прямой диалог - записи об-
ширных разговоров с Пастернаком - блестящая работа
Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы
увидим, принципиально отлична от "Диалогов". В предис-
ловии к "Разговорам с Гете" Эккермана - неизбежно воз-
никающая параллель, подчеркнутая Волковым в названии, -
В.Ф. Асмус писал: "От крупных мастеров остаются произ-
ведения, дневники, переписка. Остаются и воспоминания
современников: друзей, врагов и просто знакомых... Но
редко бывает, чтобы в этих материалах и записях сохра-
нился на длительном протяжении след живых бесед и диа-
логов, споров и поучений. Из всех проявлений крупной
личности, которые создают ее значение для современников
и потомков, слово, речь, беседа - наиболее эфемерные и
преходящие. В дневники попадают события, мысли, но ред-
ко диалоги. Самые блистательные речи забываются, самые
остроумные изречения безвозвратно утрачиваются... Во
всем услышанном они (мемуаристы. - Я.Г.) произведут,
быть может, незаметно для самого собеседника, отбор,
исключение, перестановку и - что самое главное - пере-
толкование материала. Что уцелело от бесед Пушки-
на, Тютчева, Байрона, Оскара Уайльда? А между тем сов-
ременники согласно свидетельствуют, что в жизни этих
художников беседа была одной из важнейших форм сущест-
вования их гения"*. В русской культуре существует также
феномен Чаадаева, самовыражение, творчество которого в
течение многих лет после катастрофы, вызванной публика-
цией одного из "Философических писем", происходило
именно в форме публичной беседы. Судьба разговоров Пуш-
кина подтверждает мысль Асмуса - все попытки задним
числом реконструировать его блестящие устные импровиза-
ции не дали сколько-нибудь заметного результата. Но су-
щество проблемы понимали не только теоретики, но и
практики. Поль Гзелль, выпустивший книгу "Беседы Анато-
ля Франса", писал: "Превосходство великих людей не
всегда проявляется в их наиболее обработанных произве-
дениях. Едва ли не чаще оно узнается в непосредственной
и свободной игре их мысли. То, под чем они и не думают
ставить свое имя, что они создают интенсивным порывом
мысли, давно созревшие, падающие непроизвольно, само
собой - вот, нередко, лучшие произведения их гения"**.
Но как бы высока ни была ценность книги "Разговоры с
Гете", сам Асмус признает: "И все же "Разговоры" вос-
создают перед читателем образ всего лишь эккермановско-
го Гете. Ведь интерпретация... остается все же интерп-
ретацией". "Диалоги с Бродским" - явление принципиально
иного характера. Наличие магнитофона исключает фактор
даже непредумышленной интерпретации. Перед читателем не
волковский Бродский, но Бродский как таковой. Ответс-
твенность за все сказанное - на нем самом. При этом
Волков отнюдь не ограничивает себя функцией включения и
выключения магнитофона. Он искусно направляет разговор,
не влияя при этом на характер сказанного собеседником.
Его задача - определить круг стратегических тем, а
внутри каждой темы он отводит себе роль интеллектуаль-
ного провокатора. Кроме того - и это принципиально! - в
отличие от Эккермана и Гзелля Волков старается получить
и чисто биографическую информацию. Однако все же глав-
ное - не задача, которую ставит перед собой Волков, -
она понятна, - а задача, решаемая Бродским. Несмотря на
огромное количество интервью поэта и его публичные лек-
ции, Бродский как личность оставался достаточно закры-
тым, ибо все это не составляло системы, объясняющей
судьбу. Известно, что в последние годы Бродский крайне
болезненно и раздраженно относился к самой возможности
изучения его, так сказать, внелитературной биографии,
опасаясь - не без оснований - что интерес к его поэзии
подменяется интересом к личным аспектам жизни и стихи
будут казаться всего лишь плоским вариантом автобиогра-
фии. И то, что в последние годы жизни он часами - под
магнитофон - рассказывал о себе увлеченно и, казалось
бы, весьма откровенно - представляется противоречащим
резко выраженной антибиографической позиции.
Но это ложное противоречие. Бродский не совершал
случайных поступков. Когда Ахматова говорила, что влас-
ти делают "рыжему" биографию, она была права только от-
части. Бродский принимал в "делании" своей биографии
самое непосредственное и вполне осознанное участие,
несмотря на всю юношескую импульсивность и кажущуюся
бессистемность поведения. И в этом отношении, как и во
многих других, он чрезвычайно схож с Пушкиным. Боль-
шинством своих современников Пушкин, как известно,
воспринимался как романтический поэт, поведение которо-
го определяется исключительно порывами поэтической на-
туры. Но близко знавший Пушкина умный Соболевский писал
в 1832 году Шевыреву, опровергая этот расхожий взгляд:
"Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и
большой практик". Речь не идет о демонстративном жиз-
нетворчестве байронического типа или образца Серебряно-
го века. Речь идет об осознанной стратегии, об осознан-
ном выборе судьбы, а не просто жизненного стиля. В 1833
году, в критический момент жизни, Пушкин начал вести
дневник, цель которого была - не в последнюю очередь -
объяснить выбранный им стиль поведения после 26-го года
и причины изменения этого стиля. Пушкин объяснялся с
потомками, понимая, что его поступки будут толковаться
и перетолковываться. Он предлагал некий путеводитель.
Есть основания предполагать, что диалоги с Волковым под
магнитофон, которые - как Бродский прекрасно понимал -
в конечном итоге предназначались для печати, выполняли
ту же функцию. Бродский предлагал свой вариант духовной
и бытовой биографии в наиболее важных и дающих повод
для вольных интерпретаций моментах. В "Диалогах" крайне
значимые проговорки на эту тему. "У каждой эпохи, каж-
дой культуры есть своя версия прошлого", - говорит
Бродский. За этим стоит: у каждого из нас есть своя
версия собственного прошлого. И здесь, возвращаясь к
записям А. К. Гладкова, нужно сказать, что Пастернак
явно подобной цели не преследовал. Это был совершенно
вольный разговор на интеллектуальные темы, происходив-
ший в страшные дни мировой войны в российском захо-
лустье. В монологах Пастернака нет системной устремлен-
ности Бродского, осознания программности сказанного,
ощущения подводимого итога. И отсутствовал магнитофон -
что психологически крайне существенно. "Диалоги" нельзя
воспринимать как абсолютный источник для жизнеописания
Бродского. При том, что они содержат гигантское коли-
чество фактического материала, они являются и откровен-
ным вызовом будущим исследователям, ибо собеседник Вол-
кова менее всего мечтает стать безропотным "достоянием
доцента". Он воспроизводит прошлое как художественный
текст, отсекая лишнее - по его мнению, - выявляя не
букву, а дух событий, а когда в этом есть надобность, и
конструируя ситуации. Это не обман - это творчество,
мифотворчество. Перед нами - в значительной степени -
автобиографический миф. Но ценность "Диалогов" от этого
не уменьшается, а увеличивается. Выяснить те или иные
бытовые обстоятельства, в конце концов, по силам стара-
тельным и профессиональным исследователям. Реконструи-
ровать представление о событиях, точку зрения самого
героя невозможно без его помощи. В "Диалогах" выявляет-
ся самопредставление, самовосприятие Бродского. "Диало-
ги", условно говоря, состоят из двух пластов. Один -
чисто интеллектуальный, культурологический, философи-
ческий, если угодно. Это беседы о Цветаевой, Одене,
Фросте. Это - важнейшие фрагменты духовной биографии
Бродского, не подлежащие критическому комментарию. Лишь
иногда, когда речь заходит о реальной истории, суждения
Бродского нуждаются в корректировке, так как он реши-
тельно предлагает свое представление о событиях вместо
самих событий. Это, например, разговор о Петре I. "В
сознании Петра Великого существовало два направления -
Север и Запад. Больше никаких. Восток его не интересо-
вал. Его даже Юг особо не интересовал..." Но в геополи-
тической концепции Петра Юго-Восток играл не меньшую
роль, чем Северо-Запад. Вскоре после полтавской победы
он предпринял довольно рискованный Прутский поход про-
тив Турции, едва не кончившийся катастрофой. Сразу пос-
ле окончания двадцатилетней Северной войны Петр начина-
ет Персидский поход, готовя прорыв в сторону Индии - на
Восток ( с чего, собственно, началась Кавказская вой-
на). И так далее. Это, однако, достаточно редкий слу-
чай. Когда речь шла о реальности объективной, внешней -
в любых ее ипостасях, если она не касается непосредс-
твенно его жизни, - Бродский вполне корректен в обраще-
нии с фактами. Ситуация меняется, когда мы попадаем во
второй слой "Диалогов", условно говоря, автобиографи-
ческий. Здесь будущим биографам поэта придется изрядно
потрудиться, чтобы объяснить потомкам, скажем, почему
Бродский повествует о полутора годах северной своей
ссылки как о пустынном отшельничестве, как о пространс-
тве, населенном только жителями села Норенское, не упо-
миная многочисленных гостей. Но, пожалуй, наиболее вы-
разительным примером художественного конструирования
события стало описание суда 1964 года. Вся эта ситуация
принципиально важна, ибо демонстрирует не только отно-
шение Бродского к этому внешне наиболее драматическому
моменту его жизни, но объясняет экзистенциальную уста-
новку зрелого Бродского по отношению к событиям внешней
жизни. Отвечая на вопросы Волкова о ходе суда, он ут-
верждает, что Фриду Вигдорову, сохранившую в записи
происходивший там злобный абсурд, рано вывели из зала и
потому запись ее принципиально не полна. Вигдорова, од-
нако, присутствовала в зале суда на протяжении всех пя-
ти часов, и хотя в какой-то момент - достаточно отда-
ленный от начала - судья запретил ей вести запись, Виг-
дорова с помощью еще нескольких свидетелей восстановила
ход процесса до самого конца. Все это Бродский мог
вспомнить. Но дело в том, что он был категорически про-
тив того, чтобы события ноября 1963 - марта 1964 года
рассматривались как определяющие в его судьбе. И был
совершенно прав. К этому времени уже был очевиден масш-
таб его дарования, и вне зависимости от того, появились
бы в его жизни травля, суд, ссылка или не появились, он
все равно остался бы в русской и мировой культуре.
Бродский сознавал это, и его подход к происшедшему мно-
гое объясняет в его зрелом мировидении. "Я отказываюсь
все это драматизировать!" - резко отвечает он Волкову.
На что следует идеально точная реплика Волкова: "Я по-
нимаю, это часть вашей эстетики". Здесь ключ. Изложение
событий так, как они выглядели в действительности, рет-
роспективно отдавало бы мелодрамой. Но Бродский девя-
ностых резко поднимает уровень представления о драма-
тичности по сравнению с шестидесятыми, и то, что тогда
казалось высокой драмой, оказывается гораздо ниже этого
уровня. Истинная драма переносится в иные сферы. Восп-
риятие Бродским конкретной картины суда трансформирова-
лось вместе с его эстетическими и философскими установ-
ками, вместе с его стилистикой в ее не просто литера-
турном, но экзистенциальном плане. И прошлое должно со-
ответствовать этой новой стилистике даже фактологичес-
ки. "Диалоги" не столько информируют - хотя конкретный
биографический материал в них содержится огромный, -
сколько провоцируют догадки совсем иного рода. Расска-
зывая о возникновении идеи книги "Новые стансы к Авгус-
те", Бродский вдруг говорит: "К сожалению, я не написал
"Божественной комедии". И, видимо, уже никогда не напи-
шу". Затем следует обмен репликами про поводу эпичности
поздней поэзии Бродского и отсутствии при этом в ее
составе "монументального романа в стихах". Бродский
иронически вспоминает "Шествие" и - как образец мону-
ментальной формы - "Горбунова и Горчакова", вещи, кото-
рая представляется ему произведением чрезвычайно серь-
езным. " А что касается "Комедии Дивины"... ну, не
знаю, но, видимо, нет - уже не напишу. Если бы я жил в
России, дома, - тогда..." И дальше всплывает у Волкова
слово "изгнание" - намек на то, что именно в изгнании
Данте написал "Божественную комедию", и тень Данте ви-
тает над финалом "Диалогов". Во всем этом чувствуется
какая-то недоговоренность... "Величие замысла" - вари-
ант известного высказывания Пушкина о плане "Божествен-
ной комедии" - было любимым словосочетанием молодого
Бродского, о чем ему не раз напоминала в письмах Ахма-
това. И написать свою "Комедию Дивину" он пробовал. В
пятилетие - с 1963 по 1968 год - Бродский предпринял
попытку, которую можно сравнить по величию замысла и по
сложности расшифровки разве что с пророческими поэмами
Уильяма Блейка, которого Бродский внимательно читал в
шестидесятые годы. (Однотомник Блейка - английский ори-
гинал - находился в его библиотеке.)
Это был цикл "больших стихотворений" - "Большая
элегия Джону Донну", "Исаак и Авраам", "Столетняя вой-
на", "Пришла зима...", "Горбунов и Горчаков". Это еди-
ное грандиозное эпическое пространство, объединенное
общей метрикой, сквозными образами-символами - птицы,
звезды, снег, море - общими структурными приемами и,
главное, общим религиозно-философским фундаментом. Как
и у Блейка - это еретический эпос. Но и "Божественная
комедия" родилась в контексте сектантских еретических
утопий. Рай и Ад присутствуют в эпосе Бродского. В нео-
публикованной "Столетней войне" есть потрясающее описа-
ние подземного царства, где "Корни - звезды, черви -
облака", "где воет Тартар страшно" и откуда вырывается
зловещий ангел - птица раздора***.
Таков фон разговора о ненаписанной "Божественной
комедии", такова и глубинная тематика многих диалогов
книги.
Монологи и диалоги о Цветаевой, Мандельштаме, Пас-
тернаке, Одене, Фросте - быть может, в большей степени
автобиографичны, чем иронический рассказ о собственной
жизни. И ни один исследователь жизни и творчества
Бродского не может отныне обойтись без этой книги.
Яков Гордин
_____________________
* Иоган Петер Эккерман. "Разговоры с Гете". М.-Л.,
с. 7.
** Поль Гзелль. "Беседы Анатоля Франса". Петер-
бург-Москва, 1923, с.10.
*** Соображения о пяти "больших стихотворениях"
как о едином эпическом пространстве были высказаны ав-
тором этого предисловия в 1995 году (Russian Literature
XXXVII, North-Holland) и прочитаны И. Бродским - возра-
жений не последовало.
Вместо вступления Начальным импульсом для книги "Диалоги с Иосифом Бродским" стали лекции, читанные поэтом в Колумбийском университете (Нью-Йорк) осенью 1978 года. Он комменти- ровал тогда для американских студентов своих любимых поэтов: Цветаеву, Ахматову, Роберта Фроста, У.Х.Одена. Эти лекции меня ошеломили. Как это случается, страстно захотелось поделиться своими впечатлениями с возможно большей аудиторией. У меня возникла идея книги "разговоров", которую я и предложил Бродскому. Он сразу же ответил согласием. Так началась многолетняя, потре- бовавшая времени и сил работа. Результатом ее явился объемистый манускрипт. В нем, кроме глав, посвя- щенных вышеназванным поэтам, большое место заняли авто- биографические разделы: воспоминания о детстве и юности в Ленинграде, о "процессе Бродского", ссылке на Север и последующем изгнании на Запад, о жизни в Нью-Йорке, пу- тешествиях и т.д. Отдельные главы публиковались еще при жизни Бродс- кого. Предполагалось, что завершающий раздел книги бу- дет посвящен впечатлениям от новой встречи поэта с Рос- сией, с его родным Питером. Не получилось... Жанр "разговора" особый. Сравнительно давно укоре- нившийся на Западе, в России он пока не привился. Клас- сическая книга Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, при всей ее документальности, есть все же в первую очередь дневник самой Чуковской. Русский читатель к "разговорам" со своими поэтами не привык. Причин на то много. Одна из них - поздняя профессионализация литературы на Руси. К поэту прислу- шивались, но его не уважали. Эккерман свои знаменитые "Разговоры с Гете" издал в 1836 году; на следующий год некролог Пушкина, в кото- ром было сказано, что поэт "скончался в середине своего великого поприща", вызвал гнев русского министра прос- вещения: "Помилуйте, за что такая честь? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поп- рище". Ситуация стала меняться к началу XX века, с появ- лением массового рынка для стихов. Но было поздно - пришла революция; с ней все и всяческие разговоры укры- лись в глухое подполье. И, хотя звукозапись уже сущест- вовала, не осталось записанных на магнитофон бесед ни с Пастернаком, ни с Заболоцким, ни с Ахматовой. Между тем на Западе жанр диалога процветает. Родо- начальник его, "Разговоры с Гете", все еще стоит особ- няком. Другая вершина - пять книг бесед со Стравинским, изданных Робертом Крафтом в сравнительно недавние годы; эта блестящая серия заметно повлияла на наши культурные вкусы. Откристаллизовалась и эстетика жанра. Тут можно назвать "Разговоры беженцев" Брехта и некоторые пьесы Беккета и Ионеско. Успех фильма Луи Малля "Обед с Анд- ре", целиком построенного на разговоре двух реально су- ществующих лиц, показал, что и сравнительно широкой публике этот прием интересен. Внимательный читатель заметит, что каждый разговор с Бродским тоже строился как своего рода пьеса - с за- вязкой, подводными камнями конфликтов, кульминацией и финалом. Соломон Волков
Детство и юность в Ленинграде:
лето 1981 - зима 1992
СВ: Вы родились в мае 1940 года, то есть за год с
небольшим до нападения армии Гитлера на Россию. Помните
ли вы блокаду Ленинграда, которая началась в сентябре
1941 года?
ИБ: Одну сцену я помню довольно хорошо. Мать тащит
меня на саночках по улицам, заваленным снегом. Вечер,
лучи прожекторов шарят по небу. Мать протаскивает меня
мимо пустой булочной. Это около Спасо-Преображенского
собора, недалеко от нашего дома. Это и есть детство.
СВ: Вы помните, что взрослые говорили о блокаде?
Насколько я понимаю, ленинградцы старались избегать
этой темы. С одной стороны, тяжело было обсуждать все
эти невероятные мучения. С другой стороны, это не поощ-
рялось властями. То есть блокада была полузапретной те-
мой. ИБ: У меня такого ощущения не было. Помню, как
мать говорила, кто как умер из знакомых, кого и как на-
ходили в квартирах - уже мертвыми. Когда отец вернулся
с фронта, мать с ним часто говорила об этом. Обсуждали,
кто где был в блокаду.
СВ: А о людоедстве в осажденном Ленинграде говори-
ли? Эта тема была, пожалуй, самой страшной и запретной;
о ней говорить боялись, - но, с другой стороны, трудно
было ее обойти...
ИБ: Да, говорили и о людоедстве. Нормально. А отец
вспоминал прорыв блокады в начале 1943 года - он ведь в
нем участвовал. А полностью блокаду сняли еще через
год.
СВ: Вы ведь были эвакуированы из Ленинграда?
ИБ: На короткий срок, меньше года, в Череповец.
СВ: А возвращение из эвакуации в Ленинград вы пом-
ните?
ИБ: Очень хорошо помню. С возвращением из Черепов-
ца связано одно из самых ужасных воспоминаний детства.
На железнодорожной станции толпа осаждала поезд. Когда
он уже тронулся, какой-то старик-инвалид ковылял за
составом, все еще пытаясь влезть в вагон. А его оттуда
поливали кипятком. Такая вот сцена из спектакля "Вели-
кое переселение народов".
СВ: А ваши эмоции по поводу Дня Победы в 1945 году
вы помните?
ИБ: Мы с мамой пошли смотреть праздничный салют.
Стояли в огромной толпе на берегу Невы у Литейного мос-
та. Но эмоций своих абсолютно не помню. Ну какие там
эмоции? Мне ведь было всего пять лет.
СВ: В каком районе Ленинграда вы родились?
ИБ: Кажется, на Петроградской стороне. А рос глав-
ным образом на улице Рылеева. Во время войны отец был в
армии. Мать, между прочим, тоже была в армии - перевод-
чицей в лагере для немецких военнопленных. А в конце
войны мы уехали в Череповец.
СВ: И вернулись потом на то же место?
ИБ: Да, в ту же комнату. Поначалу мы нашли ее опе-
чатанной. Пошли всякие склоки, война с начальством,
оперуполномоченным. Потом нам эту комнату вернули.
Собственно говоря, у нас было две комнаты. Одна у мате-
ри на улице Рылеева, а другая у отца на проспекте Газа,
на углу этого проспекта и Обводного канала. И, собс-
твенно, детство я провел между этими двумя точками.
СВ: В ваших стихах, практически с самого начала,
очень нетрадиционный взгляд на Петербург. Это как-то
связано с географией вашего детства?
ИБ: Что вы имеете в виду?
СВ: Уже в ваших ранних стихах Петербург - не му-
зей, а город рабочих окраин.
ИБ: Где вы нашли такое?
СВ: Да хотя бы, к примеру, ваше стихотворение "От
окраины к центру", написанное, когда вам было чуть
больше двадцати. Вы там описываете Ленинград как "полу-
остров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик".
ИБ: Да, это Малая Охта! Действительно, есть у меня
стихотворение, которое описывает индустриальный Ленинг-
рад! Это поразительно, но я совершенно забыл об этом!
Вы знаете, я не в состоянии говорить про свои собствен-
ные стихи, потому что не очень хорошо их помню.
СВ: Это стихотворение для своего времени было, по-
жалуй, революционным. Потому что оно заново открывало
официально как бы несуществующую - про крайней мере, в
поэзии - сторону Ленинграда. Кстати, как вы предпочита-
ли называть этот город - Ленинградом, Петербургом?
ИБ: Пожалуй, Питером. И для меня Питер - это и
дворцы, и каналы. Но, конечно, мое детство предрасполо-
жило меня к острому восприятию индустриального пейзажа.
Я помню ощущение этого огромного пространства, открыто-
го, заполненного какими-то не очень значительными, но
все же торчащими сооружениями...
СВ: Трубы...
ИБ: Да, трубы, все эти только еще начинающиеся но-
востройки, зрелище Охтинского химкомбината. Вся эта по-
этика нового времени...
СВ: Как раз можно сказать, что это, скорее, против
поэтики нового, то есть советского, времени. Потому что
задворки Петербурга тогда просто перестали изображать.
Когда-то это делал Мстислав Добужинский...
ИБ: Да, арт нуво!
Волков. - А потом эта традиция практически прерва-
лась. Ленинград - и в изобразительном искусстве, и в
стихах - стал очень условным местом. А читающий ваше
стихотворение тут же вспоминает реальный город, реаль-
ный пейзаж - его краски, запахи.
ИБ: Вы знаете, в этом стихотворении, насколько я
сейчас помню, так много всего наложилось, что мне труд-
но об этом говорить. Одним словом или одной фразой это-
го ни в коем случае не выразить. На самом деле это сти-
хи о пятидесятых годах в Ленинграде, о том времени, на
которое выпала наша молодость. Там даже есть, букваль-
но, отклик на появление узких брюк.
СВ: "... Возле брюк твоих вечношироких"?
ИБ: Да, совершенно верно. То есть это как бы по-
пытка сохранить эстетику пятидесятых годов. Тут многое
намешано, в том числе и современное кино - или то, что
нам тогда представлялось современным кино.
СВ: Это стихотворение воспринимается как полемика
с пушкинским "... Вновь я посетил...".
ИБ: Нет, это скорее перифраза. Но с первой же
строчки все как бы ставится под сомнение, да? Я всегда
торчал от индустриального пейзажа. В Ленинграде это как
бы антитеза центра. Про этот мир, про эту часть города,
про окраины, действительно, никто в то время не писал.
СВ: Ни вы, ни я, Питер уже много лет не видели. И
для меня лично Питер - вот эти стихи...
ИБ: Это очень трогательно с вашей стороны, но у
меня эти стихи вызывают совершенно другие ассоциации.
СВ: Какие?
ИБ: Прежде всего, воспоминания об общежитии Ле-
нинградского университета, где я "пас" девушку в то
время. Это и была Малая Охта. Я все время ходил туда
пешком, а это далеко, между прочим. И вообще в этом
стихотворении главное - музыка, то есть тенденция к та-
кому метафизическому решению: есть ли в том, что ты ви-
дишь, что-либо важное, центральное? И я сейчас вспоми-
наю конец этого стихотворения - там есть одна мысль...
Да ладно, неважно...
СВ: Вы имеете в виду строчку "Слава Богу, что я на
земле без отчизны остался"?
ИБ: Ну да...
СВ: Эти слова оказались пророческими. Как они у
вас выскочили тогда, в 1962 году?
ИБ: Ну, это мысль об одиночестве... о непривязан-
ности. Ведь в той, ленинградской топографии - это
все-таки очень сильный развод, колоссальная разница
между центром и окраиной. И вдруг я понял, что окраина
- это начало мира, а не его конец. Это конец привычного
мира, но это начало непривычного мира, который, конеч-
но, гораздо больше, огромней, да? И идея была в принци-
пе такая: уходя на окраину, ты отдаляешься от всего на
свете и выходишь в настоящий мир.
СВ: В этом я чувствую какое-то отталкивание от
традиционного декоративного Петербурга.
ИБ: Я понимаю, что вы имеете в виду. Ну, во-пер-
вых, в Петербурге вся эта декоративность носит несколь-
ко безумный оттенок. И тем она интересна. А во-вторых,
окраины тем больше мне по душе, что они дают ощущение
простора. Мне кажется, в Петербурге самые сильные детс-
кие или юношеские впечатления связаны с этим необыкно-
венным небом и с какой-то идеей бесконечности. Когда
эта перспектива открывается - она же сводит с ума. Ка-
жется, что на том берегу происходит что-то совершенно
замечательное.
СВ: Та же история с перспективами петербургских
проспектов - кажется, что в конце этой длинной улицы...
ИБ: Да! И хотя ты знаешь всех, кто там живет, и
все тебе известно заранее - все равно, когда ты смот-
ришь, ничего не можешь с этим ощущением поделать. И
особенно это впечатление сильно, когда смотришь, ска-
жем, с Трубецкого бастиона Петропавловской крепости в
сторону Новой Голландии вниз по течению и на тот берег.
Там все эти краны, вся эта чертовщина.
СВ: Страна Александра Блока...
ИБ: Да, это то, от чего балдел Блок. Ведь он бал-
дел от петербургских закатов, да? И предрекал то-се,
пятое-десятое. На самом деле главное - не в цвете зака-
та, а в перспективе, в ощущении бесконечности, да? Бес-
конечности и, в общем, какой-то неизвестности. И Блок,
на мой взгляд, со всеми своими апокалиптическими виде-
ниями пытался все это одомашнить. Я не хочу о Блоке го-
ворить ничего дурного, но это, в общем, банальное реше-
ние петербургского феномена. Банальная интерпретация
пространства.
СВ: Эта любовь к окраинам связана, быть может, и с
вашим положением аутсайдера в советском обществе? Ведь
вы не пошли по протоптанному пути интеллектуала: после
школы - университет, потом приличная служба и т.д. По-
чему так получилось? Почему вы ушли из школы, недоучив-
шись?
ИБ: Это получилось как-то само собой.
СВ: А где находилась ваша школа?
ИБ: О, их было столько!
СВ: Вы их меняли?
ИБ: Да, как перчатки.
СВ: А почему?
ИБ: Отчасти потому, что я жил то с отцом, то с ма-
терью. Больше с матерью, конечно. Я сейчас уже путаюсь
во всех этих номерах, но сначала я учился в школе, если
не ошибаюсь, номер 203, бывшей "Петершуле". До револю-
ции это было немецкое училище. И в числе воспитанников
были многие довольно-таки замечательные люди. Но в наше
время это была обыкновенная советская школа. После чет-
вертого класса почему-то оказалось, что мне оттуда надо
уходить - какое-то серафическое перераспределение, свя-
занное с тем, что я оказался принадлежащим к другому
микрорайону. И я перешел в 196 школу на Моховой. Там
опять что-то произошло, я уже не помню что, и после
трех классов пришлось мне перейти в 181 школу. Там я
проучился год, это седьмой класс был. К сожалению, я
остался на второй год. И, оставшись на второй год, мне
было как-то солоно ходить в ту же самую школу. Поэтому
я попросил родителей перевести меня в школу по месту
жительства отца, на Обводном канале. Тут для меня нас-
тали замечательные времена, потому что в этой школе был
совершенно другой контингент - действительно рабочий
класс, дети рабочих.
СВ: Вы почувствовали себя среди своих?
ИБ: Да, ощущение было совершенно другое. Потому
что мне опротивела эта полуинтеллигентная шпана. Не то
чтобы у меня тогда были какие-то классовые чувства, но
в этой новой школе все было просто. А после седьмого
класса я попытался поступить во Второе Балтийское учи-
лище, где готовили подводников. Это потому, что папаша
был во флоте, и я, как всякий пацан, чрезвычайно торчал
от всех этих вещей - знаете?
СВ: Погоны, кителя, кортики?
ИБ: Вот-вот! Вообще у меня по отношению к морскому
флоту довольно замечательные чувства. Уж не знаю, отку-
да они взялись, но тут и детство, и отец, и родной го-
род. Тут уж ничего не поделаешь! Как вспомню Воен-
но-морской музей, андреевский флаг - голубой крест на
белом полотнище... Лучшего флага на свете вообще нет!
Это я уже теперь точно говорю! Но ничего из этой моей
попытки, к сожалению, не вышло.
СВ: А что помешало?
ИБ: Национальность, пятый пункт. Я сдал экзамены и
прошел медицинскую комиссию. Но когда выяснилось, что я
еврей - уж не знаю, почему они это так долго выясняли -
они меня перепроверили. И вроде выяснилось, что с гла-
зами лажа, астигматизм левого глаза. Хотя я не думаю,
что это чему бы то ни было мешало. При том, кого они
туда брали... В общем, погорел я на этом деле, ну это
неважно. В итоге я вернулся в школу на Моховую и проу-
чился там год, но к тому времени мне все это порядком
опротивело.
СВ: Ситуация в целом опротивела? Или сверстники?
Или кто-нибудь из педагогов вас особенно доставал?
ИБ: Да, там был один замечательный преподаватель -
кажется, он вел Сталинскую Конституцию. В школу он при-
шел из армии, армейский, бывший. То есть рожа - карика-
тура полная. Ну, как на Западе изображают советских:
шляпа, пиджак, все квадратное и двубортное. Он меня
действительно люто ненавидел. А все дело в том, что в
школе он был секретарем парторганизации. И сильно пор-
тил мне жизнь. Тем и кончилось - я пошел работать фре-
зеровщиком на завод "Арсенал", почтовый ящик 671. Мне
было тогда пятнадцать лет.
СВ: Бросить школу - это довольно радикальное реше-
ние для ленинградского еврейского юноши. Как реагирова-
ли на него ваши родители?
ИБ: Ну, во-первых, они видели, что толку из меня
все равно не получается. Во-вторых, я действительно хо-
тел работать. А в семье просто не было башлей. Отец то
работал, то не работал.
СВ: Почему?
ИБ: Время было такое, смутное. Гуталин только что
врезал дуба. При Гуталине папашу выгнали из армии, по-
тому что вышел ждановский указ, запрещавший евреям выше
какого-то определенного звания быть на политработе, а
отец был уже капитан третьего ранга, то есть майор.
СВ: А кто такой Гуталин?
ИБ: Гуталин - это Иосиф Виссарионович Сталин, он
же Джугашвили. Ведь в Ленинграде все сапожники были ай-
соры.
СВ: В первый раз слышу такую кличку.
ИБ: А где вы жили всю жизнь, Соломон? В какой
стране?
СВ: Когда умер Сталин, я жил в Риге.
ИБ: Тогда понятно. В Риге так, конечно, не .гово-
рили.
СВ: Кстати, разве в пятнадцать лет можно было ра-
ботать? Разве это было разрешено?
ИБ: В некотором роде это было незаконно. Но вы
должны понять, это был 1955 год, о какой бы то ни было
законности речи не шло. А я вроде был парень здоровый.
СВ: А в школе вас не уговаривали остаться? Дес-
кать, что же ты делаешь, опомнись?
ИБ: Как же, весь класс пришел ко мне домой. А в то
время я уже за какой-то пионервожатой ухаживал, или мне
так казалось. Помню, возвращаюсь я домой с этих ухажи-
ваний, совершенно раздерганный, вхожу в комнату - а у
нас всего две комнаты и было, одна побольше, другая по-
меньше - и вижу, сидит почти весь класс. Это меня, надо
сказать, взбесило. То есть реакция была совершенно не
такая, как положено в советском кинофильме. Я нисколько
не растрогался, а наоборот - вышел из себя. И в школу,
конечно, не вернулся.
СВ: И никогда об этом не жалели?
ИБ: Думаю, что в итоге я ничего не потерял. Хотя,
конечно, жалко было, что школу не закончил, в универси-
тет не пошел и так далее. Я потом пытался сдать экзаме-
ны за десятилетку экстерном.
СВ: Я знал, что такая возможность - сдавать экза-
мены экстерном - в Советском Союзе существовала, но в
первый раз говорю с человеком, который этой возмож-
ностью воспользовался. По-моему, власти к этой идее
всегда относились достаточно кисло.
ИБ: Да нет, если подготовиться, то можно сдать за
десятилетку совершенно спокойно. Я, в общем, как-то
подготовился, по всему аттестату. Думал, что погорю на
физике или на химии, но это я как раз сдал. Как это ни
комично, погорел я на астрономии. По астрономии я реши-
тельно ничего не читал тем летом. Действительно, руки
не доходили. Чего-то они меня спросили, я походил вок-
руг доски. Но стало совершенно ясно, что астрономию я
завалил. Можно было попробовать пересдать, но я уже
как-то скис: надоело все это, эти детские игры. Да я уж
и пристрастился к работе: сначала был завод, потом морг
в областной больнице. Потом геологические экспедиции
начались.
СВ: А что именно вы делали в морге? И как вы туда
попали?
ИБ: Вы знаете, когда мне было шестнадцать лет, у
меня возникла идея стать врачом. Причем нейрохирургом.
Ну нормальная такая мечта еврейского мальчика. И вслед
появилась опять-таки романтическая идея - начать с са-
мого неприятного, с самого непереносимого. То есть, с
морга. У меня тетка работала в областной больнице, я с
ней поговорил на эту тему. И устроился туда, в морг. В
качестве помощника прозектора. То есть, я разрезал тру-
пы, вынимал внутренности, потом зашивал их назад. Сни-
мал крышку черепа. А врач делал свои анализы, давал
заключение. Но все это продолжалось сравнительно недол-
го. Дело в том, что тем летом у отца как раз был ин-
фаркт. Когда он вышел из больницы и узнал, что я рабо-
таю в морге, это ему, естественно, не понравилось. И
тогда я ушел. Надо сказать, ушел безо всяких сожалений.
Не потому, что профессия врача мне так уж разонрави-
лась, но частично эта идея как бы улетучилась. Потому
что я уже поносил белый халат, да? А это, видимо, было
как раз главное, что меня привлекало в этой профессии.
СВ: Вас не воротило от работы в морге? Чисто физи-
чески?
ИБ: Вы знаете, сейчас я такое ни в коем случае не
смог бы сдюжить. А в юности ни о чем метафизическом не
думаешь, просто довольно много неприятных ощущений.
Скажем, несешь на руках труп старухи, перекладываешь
его. У нее желтая кожа, очень дряблая, она прорывается,
палец уходит в слой жира. Не говоря уже о запахе. Пото-
му что масса людей умирает перед тем, как покакают, и
все это остается внутри. И поэтому присутствует не
только запах разложения, но еще и вот этого добра. Так
что просто в смысле обоняния, это было одно из самых
крепких испытаний.
СВ: Мне такое даже слушать - испытание.
ИБ: Ушел я из морга главным образом потому, что
приключилась одна неприятная сцена. Больница эта была
областная. И летом очень много привозили детей. Дело в
том, что летом (а это был июль) детская смертность
подскакивает. По области гуляет бруцеллез, много случа-
ев токсической диспепсии, маленькие дети особенно стра-
дают;
что-нибудь съедят или выпьют - молочко не такое, и
все. Младенцы этому чрезвычайно подвержены. И пришел к
нам в морг цыган. Я выдал ему двух его детей - двойня-
шек, если не ошибаюсь. Он когда увидел их разрезанными,
то среагировал на это довольно буйно: решил меня тут же
на месте и пришить. И вот этот цыган с ножом в руке
стал носиться за мной по моргу. А я бегал от него между
столами, на которых лежали покрытые простынями трупы.
То есть это такой сюрреализм, по сравнению с которым
Жан Кокто - просто сопля. Наконец, он поймал меня,
схватил за грудки, и я понял, что сейчас произойдет
что-нибудь непоправимое. Тогда я изловчился, взял хи-
рургический молоток - такой, знаете, из нержавеющей
стали - и ударил цыгана по запястью. Рука его разжа-
лась, он сел и заплакал. А мне стало очень не по себе.
СВ: Ну и сцена...