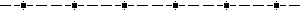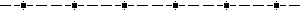Еще позднее, когда и количество книг, и потреб-
ность в уединении драматически возросли, я дополнитель-
но разгородил свою половину посредством перестановки
тех двух шкафов таким образом, чтобы они отделяли мою
кровать и письменный стол от темного закутка. Между ни-
ми я втиснул третий, который бездействовал в коридоре.
Отодрал у него заднюю стенку, оставив дверцу нетрону-
той. В результате чего гостю приходилось попадать в мой
Lebensraum, минуя две двери и одну занавеску. Первой
дверью была та, что вела в коридор; затем вы оказыва-
лись в отцовском закутке и отодвигали занавеску; оста-
валось открыть дверцу бывшего платяного шкафа. На шкафы
я сложил все имевшиеся у нас чемоданы. Их было много; и
все же они не доходили до потолка. Суммарный результат
походил на баррикаду; за ней, однако, Гаврош чувствовал
себя в безопасности, и некая Марина могла обнажить не
только бюст.
21
Косые взгляды, коими отец с матерью встречали эти
превращения, несколько просветлели, когда за перегород-
кой стал раздаваться стук моей пишущей машинки. Драпи-
ровка приглушала его основательно, но не полностью. Пи-
шущая машинка тоже составила часть китайского улова от-
ца, хотя он отнюдь не предполагал, что его сын приберет
ее к рукам. Я держал ее на письменном столе, вдвинутом
в нишу, образованную заложенной кирпичами дверью, кото-
рая некогда соединяла полторы комнаты с остальной анфи-
ладой. Вот когда лишние полметра пришлись кстати! Пос-
кольку у соседей с противоположной стороны этой двери
стоял рояль, я со своей заслонился от бренчания их до-
чери стеллажами, которые, опираясь на мой письменный
стол, точно подходили под нишу.
Два зеркальных шкафа и между ними проход -- с од-
ной стороны; высокое зашторенное окно точно в полумет-
ре, над коричневым, довольно широким диваном без поду-
шек -- с другой; арка, заставленная до мавританской
кромки книжными полками -- сзади; заполняющие нишу
стеллажи и письменный стол с "ундервудом" у меня перед
носом -- таков был мой Lebensraum. Мать убирала его,
отец пересекал взад-вперед по пути в свой закуток;
иногда он или она находили убежище в моем потрепанном,
но уютном кресле после очередной словесной стычки. В
остальном эти десять квадратных метров принадлежали
мне, и то были лучшие десять метров, которые я ког-
да-либо знал. Если пространство обладает собственным
разумом и ведает своим распределением, то имеется веро-
ятность, что хотя бы один из тех десяти метров тоже мо-
жет вспоминать обо мне с нежностью. Тем более теперь,
под чужими ногами.
22
Я готов поверить, что в России труднее, чем где бы
то ни было, смириться с разрывом уз. Ведь мы куда более
оседлые люди, чем другие обитатели континента (немцы
или французы), которые перемещаются гораздо чаще хотя
бы потому, что у них есть автомобили и нет повода тол-
ковать о границах. Для нас квартира -- это пожизненно,
город -- пожизненно, страна -- пожизненно. Следователь-
но, представление о постоянстве глубже, ощущение утраты
тоже. Все же нация, погубившая в течение полувека почти
шестьдесят миллионов душ во имя собственного плотоядно-
го государства (в том числе двадцать миллионов убитых
на войне), несомненно оказалась вынуждена повысить свое
чувство стабильности. Уже хотя бы потому, что эти жерт-
вы были принесены ради сохранения статус-кво.
Если мы задерживаемся на этих вещах, то не для то-
го, чтобы соответствовать психологическому складу род-
ной державы. Возможно, в том, что я тут наговорил, ви-
новато совсем другое: несоответствие настоящего тому,
что помнится. Память, я думаю, отражает качество реаль-
ности примерно так же, как утопическая мысль. Реаль-
ность, с которой я сталкиваюсь, не имеет ни соответс-
твия, ни отношения к полутора комнатам там, за океаном,
и двум их обитателям, уже не существующим. Что до выбо-
ра, не могу представить более ошеломительного, чем мой.
Все равно что разница между полушариями, ночью и днем,
урбанистическим и сельским пейзажем, между мертвыми и
живыми. Единственная точка пересечения -- мое тело и
пишущая машинка. Другой марки и с другим шрифтом.
Полагаю, что, живи я вместе с родителями последние
двенадцать лет их жизни, будь я рядом с ними, когда они
умирали, контраст между ночью и днем, между улицей в
русском городе и американским сельским шоссе был бы для
меня не таким резким; напор памяти уступил бы утопичес-
кой надежде. Износ и усталость притупили бы чувства
настолько, что трагедия воспринималась бы как естест-
венная и осталась бы позади естественным образом. Одна-
ко не многие вещи столь тщетны, как взвешивание разных
возможностей задним числом; равным образом положитель-
ным в трагедии искусственной является то, что она по-
буждает обращаться к искусству. Кто беден, готов утили-
зировать все. Я утилизирую чувство вины.
23
С этим чувством нетрудно справиться. В конечном
счете всякий ребенок ощущает вину перед родителями, ибо
откуда-то знает, что они умрут раньше его. И ему лишь
требуется, дабы смягчить вину, дать им умереть естест-
венным образом: от болезней, или от старости, или по
совокупности причин. Тем не менее распространима ли
уловка такого сорта на смерть невольника, то есть того,
кто родился свободным, но чью свободу подменили?
Я сужаю определение -- невольник не из ученых со-
ображений и не по недостатку душевной широты. И не
прочь согласиться с тем, что человек, рожденный в нево-
ле, информирован о свободе генетически или духовно: из
прочитанного, не то просто по слухам. Следует добавить,
что его генетическая жажда свободы, как и всякое стрем-
ление, до известной степени непоследовательна. Это не
действительная память его разума или тела. Отсюда жес-
токость и бесцельное насилие столь многочисленных восс-
таний. Отсюда же их подавление, другим словом -- тира-
ния. Смерть такому невольнику или его родным может
представляться освобождением. (Известное "свободен!
свободен! наконец свободен" Мартина Лютера Кинга.)
Но как быть с теми, кто родился свободным, а уми-
рает в неволе? Захочет он или она -- и давайте не впу-
тывать сюда церковные представления -- считать смерть
утешением? Быть может. Скорее, однако, они сочтут ее
последним оскорблением, последней непоправимой кражей
своей свободы. Тем именно, чем сочтут ее родные или
сын; тем, что она и есть по сути. Последнее похищение.
Помню, как однажды мать отправилась покупать билет
в санаторий на юг, в Минеральные Воды. Взяла двадцати-
однодневный отпуск после двух лет непрерывной работы в
жилконторе, собираясь в этом санатории лечить печень
(она так никогда и не узнала, что это рак). В железно-
дорожной городской кассе, в длинной очереди, где она
проторчала уже три часа, мать обнаружила, что деньги на
поездку, четыреста рублей, украдены. Она была безутеш-
на. Пришла домой и плакала, и плакала, стоя на комму-
нальной кухне. Я отвел ее в наши полторы комнаты; она
легла на кровать и продолжала плакать. Я запомнил это
потому, что она никогда не плакала, только на похоро-
нах.
24
В конце концов мы с отцом наскребли денег, и она
отправилась в санаторий. Впрочем, то, что она оплакива-
ла, не было утраченными деньгами... Слезы нечасто слу-
чались в нашем семействе; в известной мере то же отно-
сится и к России в целом. "Прибереги свои слезы на бо-
лее серьезный случай", -- говорила она мне, когда я был
маленький. И боюсь, что я преуспел в этом больше, чем
она того мне желала.
Полагаю, она не одобрила бы и того, что я здесь
пишу, тоже. И конечно, не одобрил бы этого отец. Он был
гордым человеком. Когда что-либо постыдное или отврати-
тельное подбиралось к нему, его лицо принимало кислое и
в то же время вызывающее выражение. Словно он говорил
"испытай меня" чему-то, о чем уже знал, что оно сильнее
его. "Чего еще можно ждать от этой сволочи" -- была его
присказка в таких случаях, присказка, с которой он по-
корялся судьбе.
То не было некой разновидностью стоицизма. Не ос-
тавалось места для какой-либо позы или философии, даже
самой непритязательной, в реальности того времени, спо-
собной скомпрометировать любые убеждения или принципы
требованием во всем подчиниться сумме их противополож-
ностей. (Лишь не вернувшиеся из лагерей могли бы пре-
тендовать на бескомпромиссность; те, что вернулись,
оказались податливы не меньше остальных.) И все-таки
цинизмом это не было тоже. Скорее -- попыткой держать
спину прямо в ситуации полного бесчестия; не пряча
глаз. Вот почему о слезах не могло быть и речи.
25
Мужчины того поколения всегда выбирали или -- или.
Своим детям, гораздо более преуспевшим в сделках с
собственной совестью (временами на выгодных условиях),
эти люди часто казались простаками. Как я уже говорил,
они не очень-то прислушивались к себе. Мы, их дети,
росли, точнее, растили себя сами, веря в запутанность
мира, в значимость оттенков, обертонов, неуловимых тон-
костей, в психологические аспекты всего на свете. Те-
перь, достигнув возраста, который уравнивает нас с ни-
ми, нагуляв ту же физическую массу и нося одежду их
размера, мы видим, что вся штука сводится именно к
принципу или -- или, к да -- нет. Нам потребовалась
почти вся жизнь для того, чтобы усвоить то, что им, ка-
залось, было известно с самого начала: что мир весьма
дикое место и не заслуживает лучшего отношения. Что
"да" и "нет" очень неплохо объемлют, безо всякого ос-
татка, все те сложности, которые мы обнаруживали и
выстраивали с таким вкусом и за которые едва не попла-
тились силой воли.
26
Ищи они эпиграф к своему существованию, таковым
могли бы стать строки Ахматовой из "Северных элегий":
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
Они почти не рассказывали мне о детстве, о своих
семьях, о родителях или дедах. Знаю только, что один из
моих дедов (по материнской линии) был торговым агентом
компании "Зингер" в прибалтийских провинциях империи
(Латвии, Литве, Польше) и что другой (с отцовской сто-
роны) владел типографией в Петербурге. Эта неразговор-
чивость, не связанная со склерозом, была вызвана необ-
ходимостью скрывать классовое происхождение в ту суро-
вую эпоху, дабы уцелеть. Неутомимый рассказчик, коим
слыл отец, пускаясь в воспоминания о своих гимназичес-
ких проделках, бывал без промедления одернут предупре-
дительным выстрелом серых глаз матери. В свою очередь
она не моргнув глазом оставляла без внимания случайную
французскую фразу, расслышанную на улице или оброненную
кем-нибудь из моих друзей, хотя однажды я застал ее за
чтением французского издания моих сочинений. Мы посмот-
рели друг на друга; потом она молча поставила книгу об-
ратно на полку и покинула мой Lebensraum.
Повернутая река, бегущая к чужеродному искусствен-
ному устью. Можно ли ее исчезновение в этом устье при-
писать естественной причине? И если можно, то как быть
с ее течением? Как быть с человеческими возможностями,
обузданными и направленными не в то русло? Кто отчита-
ется за это отклонение? И есть ли с кого спросить? За-
давая эти вопросы, я не теряю из виду тот факт, что ог-
раниченная и пущенная не в то русло жизнь может дать
начало новой, например моей, которая, если бы не именно
эта продиктованность выбора, и не имела бы места, и ни-
каких вопросов бы не возникло. Нет, мне известно о за-
коне вероятности. Я бы не хотел, чтобы мои родители
разминулись. Возникают подобные вопросы именно потому,
что я -- рукав этой повернутой, отклонившейся реки. В
конце концов, полагаю, что я разговариваю сам с собой.
Так когда же и где, спрашиваю себя, переход от
свободы к рабству обретает статус неизбежности? Когда
он делается приемлемым, в особенности для невинного
обывателя? Для какого возраста наиболее безболезненна
подмена свободного состояния? В каком возрасте эти пе-
ремены запечатлеваются в памяти слабее всего? В двад-
цать лет? В пятнадцать? В десять? В пять? В утробе ма-
тери? Риторические это вопросы, не так ли? Не совсем
так. Революционеру или завоевателю по крайней мере сле-
дует знать правильный ответ. Чингисхан, к примеру, его
знал. Просто убивал всякого, чья голова возвышалась над
ступицей тележного колеса. Стало быть, в пять. Но 25
октября 1917 года отцу исполнилось уже четырнадцать,
матери -- двенадцать лет. Она уже немного знала фран-
цузский, он -- латынь. Вот отчего я задаю эти вопросы.
Вот почему я разговариваю сам с собой.
27
Летними вечерами три наших высоких окна были отк-
рыты, и ветерок с реки пытался обрести образ предмета
под тюлевой занавеской. Река находилась недалеко, всего
в десяти минутах ходьбы от дома. Все было под рукой:
Летний сад, Эрмитаж, Марсово поле. И тем не менее, даже
будучи моложе, родители нечасто отправлялись на прогул-
ку вдвоем или поодиночке. В конце дня, проведенного на
ногах, отец вовсе не испытывал охоты снова тащиться на
улицу. Что касается матери, то стояние в очередях после
восьмичасового рабочего дня приводило к тому же резуль-
тату, и вдобавок домашних дел было невпроворот. Если
они отваживались выбираться из дому, то главным образом
для родственных встреч (дней рождения, годовщин свадь-
бы) или для походов в кино, очень редко -- в театр.
Живя рядом с ними, я не замечал их старения. Те-
перь, когда моя память снует меж минувших десятилетий,
я вижу, как мать наблюдает с балкона за шаркающей внизу
фигуркой мужа, бормоча себе под нос: "Настоящий стари-
чок, ей-богу. Настоящий законченный старичок". И я слы-
шу отцовское: "Ты просто хочешь загнать меня в могилу",
завершавшее их ссоры в шестидесятые годы вместо хло-
панья дверью и шума его удалявшихся шагов десятилетием
раньше. И, бреясь, я вижу его серебристо-серую щетину
на своем подбородке.
Если мой ум тяготеет нынче к их старческому обли-
ку, это связано, по-видимому, со способностью памяти
удерживать последние впечатления лучше прежних. (До-
бавьте к этому наше пристрастие к линейной логике, к
эволюционному принципу -- и изобретение фотографии не-
избежно.) Но я думаю, что мое собственное продвижение
по пути к старости тоже играет здесь не последнюю роль:
редко случается грезить даже о своей юности, о своем,
скажем, двенадцатилетнем возрасте. Если есть у меня
представление о будущем, оно создано по их подобию. Для
меня они как "Здесь был Ося", нацарапанное на после-
завтрашнем дне по крайней мере зрительно.
28
Подобно большинству мужчин, я скорее отмечен
сходством с отцом, нежели с матерью. Тем не менее ре-
бенком я проводил с ней больше времени: отчасти из-за
войны, отчасти из-за кочевой жизни, которую отцу затем
приходилось вести. Четырехлетнего, она научила меня чи-
тать; подавляющая часть моих жестов, интонаций и ужи-
мок, полагаю, от нее. А также некоторые из привычек, в
том числе курение.
По русским меркам она не казалась маленькой --
рост метр шестьдесят; белолица, полновата. У нее были
светлые волосы цвета речной воды, которые всю жизнь она
коротко стригла, и серые глаза. Ей особенно нравилось,
что я унаследовал ее прямой, почти римский нос, а не
загнутый величественный отцовский клюв, который она на-
ходила совершенно обворожительным. "Ах, этот клюв! --
начинала она, тщательно разделяя речь паузами. -- Такие
клювы, -- пауза, -- продаются на небесах, -- пауза, --
шесть рублей за штуку". Хотя и напоминавший один из
профилей Сфорцы у Пьеро делла Франчески, клюв был нед-
вусмысленно еврейский, и она имела причины радоваться,
что мне он не достался.
Несмотря на девичью фамилию (сохраненную ею в бра-
ке), пятый пункт играл в ее случае меньшую роль, чем
водится, из-за внешности. Она была определенно очень
привлекательна североевропейским, я бы сказал, прибал-
тийским обликом. В некотором смысле это было милостью
судьбы: у нее не возникало проблем с устройством на ра-
боту. Зато она и работала всю сознательную жизнь.
По-видимому, не сумев замаскировать свое мелкобуржуаз-
ное происхождение, она вынуждена была отказаться от
всякой надежды на высшее образование и прослужить всю
жизнь в различных конторах секретарем или бухгалтером.
Война принесла перемены: она стала переводчиком в лаге-
ре для немецких военнопленных, получив звание младшего
лейтенанта в войсках МВД. После капитуляции Германии ей
было предложено повышение и карьера в системе этого ми-
нистерства. Не сгорая от желания вступить в партию, она
отказалась и вернулась к сметам и счетам. "Не хочу при-
ветствовать мужа первой, -- сказала она начальству, --
и превращать гардероб в арсенал".
29
Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные
имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася
или Киса -- мои изобретения. С годами последние два по-
лучили большее хождение, и даже отец стал обращаться к
ней таким образом. За исключением Кисы все они были
ласкательными производными от ее имени Мария. Киса, эта
нежная кличка кошки, вызывала довольно долго ее сопро-
тивление. "Не смейте называть меня так! -- восклицала
она сердито. -- И вообще перестаньте пользоваться ваши-
ми кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими моз-
гами!"
Подразумевалась моя детская склонность растягивать
на кошачий манер определенные слова, чьи гласные распо-
лагали к такому с ними обращению. "Мясо" было одним из
таких слов, и к моим пятнадцати годам в нашей семье
стояло сплошное мяуканье. Отец оказался этому весьма
подвержен, и мы стали величать и обходиться друг с дру-
гом как "большой кот" и "маленький кот". "Мяу",
"мур-мяу" или "мур-мур-мяу" покрывали существенную
часть нашего эмоционального спектра: одобрение, сомне-
ние, безразличие, резиньяцию, доверие. Постепенно мать
стала пользоваться ими тоже, но главным образом дабы
обозначить свою к этому непричастность.
Имя Киса все-таки к ней пристало, в особенности
когда она совсем состарилась. Круглая, завернутая в две
коричневые шали, с бесконечно добрым, мягким лицом, она
выглядела вполне плюшевой и как бы самодостаточной. Ка-
залось, она вот-вот замурлычет. Вместо этого она гово-
рила отцу: "Саша, заплатил ли ты в этом месяце за
электричество" Или, ни к кому не обращаясь: "На следую-
щей неделе наша очередь убирать квартиру". И это значи-
ло мытье и натирку полов в коридорах и на кухне, а так-
же уборку в ванной и в сортире. Ни к кому не обращалась
она потому, что знала: именно ей придется это проде-
лать.
30
Как справлялись они со всеми этими уборками, чист-
ками, особенно в последние двенадцать лет, -- боюсь по-
думать. Мой отъезд, конечно, избавлял от одного лишнего
рта, и они могли позволить себе изредка кого-то нанять.
И все же, зная их бюджет (две скудные пенсии) и харак-
тер матери, сомневаюсь в этом. Кроме того, в коммунал-
ках такое редко практикуется: естественный садизм сосе-
дей так или иначе требует удовлетворения. Родственнику
это возможно, было бы позволено, но не наемной руке.
Хотя я и стал крезом с моей университетской зарп-
латой, они и слышать не хотели об обмене долларов на
рубли. Официальный курс обмена считали надувательством;
были слишком щепетильны и напуганы, чтоб иметь что-либо
общее с черным рынком. Последняя причина оказалась,
по-видимому, решающей: они помнили, как их пенсии были
аннулированы в 1964-м, когда я получил свой пятилетний
срок, и им пришлось снова искать работу. Итак, все све-
лось главным образом к одежде и книгам по искусству,
поскольку было известно, что последние высоко котирова-
лись у библиофилов. Они получали удовольствие от одеж-
ды, особенно отец, который был не прочь ею щегольнуть.
Книги, впрочем, они тоже оставляли себе. Чтобы рассмат-
ривать их после мытья коммунального пола в семидесяти-
пятилетнем возрасте.
31
Их читательские вкусы были довольно пестрыми, при-
том что мать предпочитала русскую классику. Ни она, ни
отец не имели твердых мнений о литературе, музыке,
изобразительном искусстве, хотя в молодости были даже
знакомы кое с кем из ленинградских писателей, компози-
торов, художников (с Зощенко, Заболоцким, Шостаковичем,
Петровым-Водкиным). Они оставались просто читателями,
так сказать, читателями перед сном, и аккуратно обнов-
ляли библиотечный абонемент. Возвращаясь с работы, мать
неизменно приносила в сетке с картошкой или капустой
библиотечную книгу, обернутую в газету, чтобы та не ис-
пачкалась.
Это она посоветовала мне, когда я шестнадцатилет-
ним подростком работал на заводе, записаться в городс-
кую библиотеку; и не думаю, что она при этом имела в
виду только помешать мне болтаться вечерами по улицам.
С другой стороны, насколько я помню, она хотела, чтобы
я стал художником. Как бы то ни было, залы и коридоры
того бывшего госпиталя на правом берегу Фонтанки стояли
у истока моих невзгод, и я помню первую книгу, спрошен-
ную мною там по совету матери. То был "Гулистан" ("Сад
роз") персидского поэта Саади. Матери, как выяснилось,
нравилась персидская поэзия. Следующей вещью взятой
мной самостоятельно было "Заведение Телье" Мопассана.
32
Что роднит память с искусством, так это способ-
ность к отбору, вкус к детали. Лестное для искусства
(особенно для прозы), для памяти это наблюдение должно
показаться оскорбительным. Оскорбление однако, вполне
заслужено. Память содержит именно детали, а не полную
картину сценки, если угодно, но не весь спектакль.
Убеждение, что мы каким-то образом можем вспомнить все
сразу, оптом, такое убеждение, позволяющее нам как виду
продолжать существование, беспочвенно. Более всего па-
мять похожа на библиотеку в алфавитном беспорядке и без
чьих-либо собраний сочинений.
33
Подобно тому как у других отмечают рост детей ка-
рандашными метками на кухонной стене, отец ежегодно в
мой день рождения выводил меня на балкон и там фотогра-
фировал. Фоном служила мощенная булыжником средних раз-
меров площадь с собором Преображенского полка ее импе-
раторского величества. В военные годы в ее подземелье
размещалось одно из бомбоубежищ, и мать держала меня
там во время воздушных налетов в большом ящике для по-
минальных записок. Это то немногое, чем я обязан пра-
вославию, и тоже связано с памятью.
Собор, творение классицизма высотой с шестиэтажное
здание, был щедро окаймлен садиком с дубами, липами и
кленами -- моей детской площадкой для игр, и я помню,
как мать заходит туда за мной (она тянет, я упираюсь и
кричу: аллегория разнонаправленных устремлений) и тащит
домой делать уроки. С той же ясностью я вижу ее, своего
деда, отца на одной из узких дорожек этого садика, пы-
тающихся научить меня кататься на двухколесном велоси-
педе (аллегория общей цели или движения). Внутри на
дальней восточной стене собора находилась за толстым
стеклом большая тусклая икона "Преображение Господне";
Христос, парящий в воздухе над горсткой тел, простертых
в изумлении. Никто не мог объяснить мне смысла этого
видения, -- даже теперь я не уверен, что осознал его
полностью. На иконе клубились облака, и я их как-то
связывал с местным климатом.
34
Садик был обнесен черной чугунной оградой, поддер-
живаемой расставленными на равном расстоянии стволами
пушек с перевернутыми вниз жерлами -- трофеями преобра-
женцев, захваченными у англичан в крымскую кампанию.
Дополняя декор ограды, пушечные стволы (по три в каждой
связке на гранитных блоках) были соединены тяжелыми чу-
гунными цепями, на которых самозабвенно раскачивались
дети, наслаждаясь как опасностью свалиться на колючий
кустарник внизу, так и скрежетом. Стоит ли говорить,
что это было строго запрещено, и церковный сторож пос-
тоянно прогонял нас. Надо ли объяснять, что ограда ка-
залась гораздо интереснее, чем внутренность собора с
его запахом ладана и куда более статичной деятель-
ностью. "Видишь их? -- спрашивает отец, указывая на тя-
желые звенья цепи. -- Что они напоминают тебе?" Я вто-
роклассник, и я говорю: "Они похожи на восьмерки". --
"Правильно, -- говорит он. -- А ты знаешь, символом че-
го является восьмерка?" -- "Змеи?" -- "Почти. Это сим-
вол бесконечности". -- "Что это -- бесконечность?" --
"Об этом спроси лучше там", -- говорит отец с усмешкой,
пальцем показывая на собор.
35
И он же, наткнувшись на меня на улице средь бела
дня, когда я прогуливал школу, потребовал объяснения и,
услышав, что я страдаю от жуткой зубной боли, поволок
меня прямо в стоматологическую поликлинику, так что я
заплатил за свою ложь двумя часами непрерывного ужаса.
И опять-таки он взял мою сторону на педсовете, когда
мне грозило исключение из школы за плохую дисциплину.
"Как вы смеете! Вы, носящий форму нашей армии!" --
"Флота, мадам, -- сказал отец. -- И я защищаю его пото-
му, что я его отец. В этом нет ничего удивительного.
Даже звери защищают своих детенышей. Об этом сказано у
Брема". -- "Брем? Брем? Я... я сообщу об этом в партор-
ганизацию вашей части". Что она, разумеется, и сделала.
36
"В день рождения и на Новый год следует надеть
что-нибудь совершенно новое. Хотя бы носки" -- это го-
лос матери. "Всегда поешь, прежде чем иметь дело с
кем-нибудь вышестоящим, начальником или офицером. Это
придаст тебе уверенности" (говорит отец). "Если ты уже
вышел из дому и должен вернуться, потому что что-то за-
был, посмотри в зеркало, прежде чем снова выйти. Иначе
тебя ждет неудача" (опять он). "Никогда не думай,
сколько теряешь. Думай, сколько можешь приобрести" (это
он). "Не выходи на прогулку, не захватив куртку". "Хо-
рошо, что ты рыжий, что бы там ни говорили" (это она).
Я слышу эти увещевания и наставления, но они --
фрагменты, детали. Память искажает, особенно тех, кого
мы знаем лучше всего. Она союзница забвения, союзница
смерти. Это сеть с крошечным уловом и вытекшей водой.
Вам не воспользоваться ею, чтобы кого-то оживить, хотя
бы на бумаге. Что делать с миллионами невостребованных
нервных клеток нашего мозга? Что делать с пастернаковс-
ким: "Всесильный Бог деталей, / Всесильный Бог любви"?
На каком количестве деталей можно позволить себе успо-
коиться?
37
Я вижу их лица, его и ее, с большой ясностью, во
всем разнообразии выражений, но тоже фрагментарно: мо-
менты, мгновения. Это лучше, чем фотографии с их невы-
носимым смехом, но и они тоже разрозненны. Время от
времени я начинаю подозревать свой ум в попытке создать
совокупный обобщенный образ родителей: знак, формулу,
узнаваемый набросок, -- в попытке заставить меня на
этом успокоиться. Полагаю, что мог бы; и полностью
осознаю, сколь абсурден мотив моего сопротивления: от-
сутствие непрерывности у этих фрагментов. Не следует
ждать столь много от памяти; не следует надеяться, что
на пленке, отснятой в темноте, проявятся новые образы.
Нет, конечно. И все же можно упрекать пленку, отснятую
при свете жизни, за недостающие кадры.
38
По-видимому, дело в том, что не должно быть непре-
рывности в чем-либо. По-видимому, изъяны памяти суть
доказательство подчинения живого организма законам при-
роды. Никакая жизнь не рассчитывает уцелеть. Если вы не
фараон, вы и не претендуете на то, чтобы стать мумией.
Согласившись, что объекты воспоминания обладают такого
рода трезвостью, вы смирились с данным качеством своей
памяти. Нормальный человек не думает, что все имеет
продолжение, он не ждет продолжения даже для себя или
своих сочинений. Нормальный человек не помнит, чтб он
ел на завтрак. Вещам рутинного, повторяющегося характе-
ра уготовано забвение. Одно дело завтрак, другое дело
-- любимые тобой. Лучшее, что можно сделать, -- припи-
сать это экономии места.
И можно воспользоваться этими благоразумно сбере-
женными нервными клетками, дабы поразмыслить над тем,
не являются ли эти перебои памяти просто подспудным го-
лосом твоего подозрения, что все мы друг другу чужие.
Что наше чувство автономности намного сильнее чувства
общности, не говоря уж о чувстве связей. Что ребенок не
помнит родителей, поскольку он всегда обращен вовне,
устремлен в будущее. Он тоже, наверное, бережет нервные
клетки для будущих надобностей. Чем короче память, тем
длиннее жизнь, говорит пословица. Иначе -- чем длиннее
будущее, тем короче память. Это один из способов опре-
деления ваших видов на долгожительство, выявления буду-
щего патриарха. Жаль только, что, патриархи или нет,
автономные или зависимые, мы тоже повторяемся, и Высший
Разум экономит нервные клетки на нас.
39
И не отвращение к такого сорта метафизике, и не
неприязнь к будущему, обеспеченные качеством моей памя-
ти, заставляют меня размышлять над этим, несмотря на
скудный результат. Самообольщение писателя или страх
быть обвиненным в сговоре с законами природы за счет
моего отца и матери имеют с этим тоже мало общего.
Просто я думаю, что естественные законы, отказывающие в
непрерывности всякому, выступая в союзе (или под мас-
кой) с ущербной памятью, служат интересам государства.
Что до меня, то я не собираюсь потворствовать их тор-
жеству.
Конечно, двенадцать лет разбитых, возрождающихся и
снова разбитых надежд, которые вели двух стариков через
пороги бесчисленных учреждений и канцелярий в печь го-
сударственного крематория, изобилуют повторами, прини-
мая во внимание не только их продолжительность, но так-
же и число сходных случаев. Все же я меньше берегу свои
нервные клетки от монотонности этих повторений, нежели
Высший Разум -- свои. Мои, во всяком случае, изрядно
засорены. Кроме того, память о деталях, фрагментах, не
говоря уж о воспоминаниях, написанных по-английски, не
в интересах государства. Уже одно это заставляет меня
продолжать.
40
Тем временем две вороны становятся все наглей.
Сейчас они приземлились у моего крыльца и расхаживают
там по старой дровяной поленнице. Они черны как сажа,
и, хотя я стараюсь к ним не присматриваться, я приме-
тил, что они несколько отличаются друг от друга разме-
рами. Одна поменьше другой, вроде того как мать прихо-
дилась отцу по плечо; их клювы, однако, в точности оди-
наковы. Я не орнитолог, но полагаю, что вороны живут
долго, во всяком случае вороны. И хотя я не в состоя-
нии определить их возраст, они мне кажутся старой суп-
ружеской четой. На прогулке. У меня не хватает духу
прогнать их прочь, и я не умею хоть как-то наладить с
ними общение. Кажется, также припоминаю, что вороны не
перелетные птицы. Если у истоков мифологии стоят страх
и одиночество, то я еще как одинок. И представляю,
сколь многое будет мне еще напоминать о родителях
впредь. И то сказать, когда такие гости, при чем тут
хорошая память?
41
Признак ее неполноценности -- в способности удер-
живать случайные предметы. Вроде нашего первого, тогда
еще пятизначного, номера телефона, что был у нас сразу
после войны: 265-39; и я полагаю, что до сих пор его
помню, поскольку телефон был установлен, когда я запо-
минал в школе таблицу умножения. Теперь он мне не ну-
жен, как не нужен больше последний наш номер в полутора
комнатах. Я его не помню, этот последний, хотя на про-
тяжении двенадцати лет набирал его едва ли не раз в не-
делю. Письма не доходили, оставался телефон: очевидно,
проще прослушать телефонный разговор, нежели перлюстри-
ровать и потом доставить письмо по адресу. Ох уж эти
еженедельные звонки в СССР! Международные телефонные
услуги никогда так не благоденствовали.
Мы не могли многого сказать при таком общении, нас
вынуждали быть сдержанными, прибегать к обинякам и эв-
фемизмам. Все больше о погоде и здоровье, никаких имен,
множество диетических советов. Главное было слышать го-
лос, уверяя таким непосредственным способом друг друга
во взаимном существовании. То было несемантическое об-
щение, и нет ничего удивительного в том, что я не помню
подробностей, за исключением отцовского ответа на тре-
тий день пребывания матери в больнице.
"Как Мася?" -- спросил я. "Знаешь, Маси больше
нет, вот так", -- сказал он. "Вот так" оказалось здесь
потому, что и в этом случае он попытался прибегнугь в
эвфемизму.
42
Или вот еще ключ, выброшенный на поверхность моего
сознания: продолговатый, из нержавеющей стали ключ,
плохо приспособленный для наших карманов. но хорошо по-
мещавшийся в сумке матери. Ключ открывал нашу высокую
белую дверь, и не понимаю, почему я вспоминаю о нем
сейчас, когда места этого больше нет. Не думаю, что
здесь скрыта некая эротическая символика, ибо он су-
ществовал у нас в трех экземплярах. Если на то пошло,
мне непонятно, почему я вспоминаю морщины на отцовском
лбу и подбородке или красноватую, слегка воспаленную
левую щеку матери (она называла это вегетативным невро-
зом), ибо ни этих черт, да их носителей больше нет на
свете. Только их голоса в целости и сохранности живут в
моем сознании: потому, наверное, что в моем голосе пе-
ремешаны их голоса, как в моих чертах -- их черты. Ос-
тальное -- их плоть, их одежда, телефон, ключ, наше
имущество и обстановка -- утрачено и никогда не вернет-
ся, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не
нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы ме-
бель, но бомба замедленного действия, разрывающая на
клочки даже память. Дом еще стоит, но место стерто с
лица земли, и новые жильцы, нет -- войска оккупируют
его: таков принцип действия этой бомбы. Ибо это война
замедленного действия.
43
Им нравились оперные арии, тенора, кинозвезды их
молодости; живопись, напротив, не волновала, в искусс-
тве привлекало все "классическое", решение кроссвордов
доставляло удовольствие, а мои литературные занятия
озадачивали и огорчали. Думали, что я заблуждаюсь, моя
судьба внушала им тревогу, но поддерживали меня нас-
колько могли потому, что я был их ребенком. Впоследс-
твии, когда мне удалось кое-что напечатать там и сям,
они были польщены и временами даже гордились мной, но я
знаю, что, окажись я обыкновенным графоманом и неудач-
ником, их отношение ко мне было бы точно таким же. Они
любили меня больше, чем себя, и скорее всего не поняли
бы вовсе моего чувства вины перед ними. Главное -- это
хлеб на столе, опрятная одежда и хорошее здоровье. То
были их синонимы любви, и они были лучше моих.
Что касается бомбы замедленного действия, то они
вели себя мужественно. Знали, что она когда-нибудь
взорвется, но не меняли своей тактики. Пока сохраняли
вертикальное положение, они передвигались, доставали и
доставляли продукты прикованным к постели друзьям,
родственникам, делились одеждой, деньгами или кровом с
теми, у кого в это время дела обстояли похуже. Какими я
их запомнил, такими они и оставались всегда; и не пото-
му, что в глубине души они думали, что если будут добры
к некоторым людям, то это будет зафиксировано на небе-
сах и с ними обойдутся однажды точно так же. Нет, то
была естественная и нерасчетливая душевная широта экс-
травертов, которая, по-видимому, стала тем более ощути-
мой для других, когда я, главный ее объект, оказался
вне досягаемости. И в конечном счете именно это, наде-
юсь, поможет мне совладать с качеством моей памяти.
То, что они хотели видеть меня перед смертью, не
имело ничего общего с желанием или попыткой уклониться
от взрыва. Они не были готовы эмигрировать, закончить
свои дни в Америке. Ощущали себя слишком старыми для
таких перемен, и в лучшем случае Америка была для них
названием места, где они могли бы встретиться с сыном.
Для них она казалась реальной только в смысле их сомне-
ний, удастся ли им переезд, если им разрешат выехать. И
тем не менее в какие только игры не играли двое немощ-
ных стариков со всей этой сволочью, ответственной за
выдачу разрешения! Мать обращалась за разрешением на
получение визы одна, чтобы показать, что она не собира-
ется переметнуться в Соединенные Штаты, что ее муж ос-
тается заложником, гарантией ее возвращения. Затем они
менялись ролями. Потом некоторое время никуда не обра-
щались, притворяясь, будто утратили интерес, или пока-
зывая властям, что они осознают, как тем трудно прини-
мать решение при том или ином климате в американо-со-
ветских отношениях. Затем они обращались с просьбой о
недельном пребывании в Штатах или за разрешением съез-
дить в Финляндию или Польшу. Потом она ехала в Москву
добиваться аудиенции у того, кого страна имела тогда в
качестве своего президента, и стучалась во все двери
министерств внешних и внутренних дел. Все напрасно:
система сверху донизу не позволяла себе ни одного сбоя.
Как система она может гордиться собой. И потом, бесче-
ловечность всегда проще организовать, чем что-либо дру-
гое. Для этих дел Россия не нуждается в импорте техно-
логий. Можно сказать, что единственный для страны спо-
соб разбогатеть -- это наладить их экспорт.
44
Что она и делает во все растущем объеме. И все-та-
ки можно извлечь некоторое утешение, если не надежду,
из того факта, что генетический код пусть и не смеется
последним, но оставляет за собой последнее слово. Ибо я
благодарен матери и отцу не только за то, что они дали
мне жизнь, но также и за то, что им не удалось воспи-
тать свое дитя рабом. Они старались как могли -- хотя
бы для того, чтобы защитить меня от социальной реаль-
ности, в которой я был рожден, -- превратить меня в
послушного, лояльного члена общества. То, что они не
преуспели в этом, что им пришлось заплатить за это тем,
что их глаза закрыла не рука их сына, но анонимная рука
государства, свидетельствует не столько об их упущени-
ях, сколько о качестве их генов, чья комбинация образо-
вала тело, найденное системой достаточно инородным,
чтобы его отторгнуть. И если вдуматься, чего еще ждать
от наложения друг на друга их готовности терпеть?
И если это звучит бахвальством, пусть так. Смесь
их генов заслуживает того, чтобы ею гордиться уже хотя
бы потому, что оказалась способной противостоять госу-
дарству. И не просто государству, но Первому Социалис-
тическому Государству в Истории Человечества, как оно
предпочитает величать себя; государству, особенно пре-
успевшему в генной инженерии. Вот почему его руки всег-
да омыты в крови -- в результате экспериментов по изо-
ляции и обездвиживанию клеток, отвечающих за человечес-
кую волю. Итак, принимая во внимание объем этого госу-
дарственного экспорта, сегодня, собираясь построить
семью, следует интересоваться не группой крови или при-
даным, а его или ее ДНК. Не потому ли некоторые народы
косо смотрят на смешанные браки?
Передо мной две фотографии родителей, снятые в их
молодости, на третьем десятке. Он на палубе: улыбающее-
ся беззаботное лицо на фоне пароходной трубы; она -- на
подножке вагона, кокетливо машущая рукой в лайковой
перчатке, на заднем плане поблескивают пуговицы на ту-
журке проводника. Ни один из них еще не знает о сущест-
вовании другого; ни один из них тем более не знает обо
мне. К тому же невозможно воспринимать другого, сущест-
вующего объективно вне вашей физической оболочки, как
часть себя. "Но не были мама и папа / Другими двумя
людьми", как говорит Оден. И хотя мне не дано облегчить
их прошлое даже в качестве мельчайшей возможной частицы
любого из них, что может помешать мне теперь, кргда они
объективно не существуют вне моего сознания, рассматри-
вать себя как их сумму, их будущее? Так, по крайней ме-
ре, они свободны, как при своем рождении.
В силах ли я побороть волнение, думая, что обнимаю
свою мать и отца? Могу ли я отнестись к содержимому
своего черепа как к тому, что осталось от них на земле?
Возможно. Я, по-видимому, способен на такой солипсичес-
кий подвиг. И полагаю, что лучше не противиться их сжа-
тию до размеров моей, меньшей, чем их, души. Думаю, что
справлюсь. Должен ли я промяукать в ответ, сказав себе
"Киса"? И в какую из трех моих комнат должен я сейчас
побежать, чтобы это мяуканье прозвучало убедительно?
Я -- это и есть они; я и есть наше семейство. И
поскольку никто не энает своего будущего, не уверен,
что однажды сентябрьской ночью 1939 года в уме у них
промелькнуло, что они обеспечили себе выход. В лучшем
случае, полагаю, они думали о том, чтобы завести ребен-
ка, создать семью. Довольно молодые, к тому же рожден-
ные свободными, вряд ли они понимали, что страна, где
они родились, -- это государство, которое само решает,
какая вам положена семья и положена ли вообще. Когда
они поняли это, было уже слишком поздно для всего, кро-
ме надежды. Что они и делали, пока не умерли: они наде-
ялись. Люди, настроенные по-семейному, они не могли
иначе: надеялись, старались, строили планы.
45
Мне хотелось бы верить, что они для своего же бла-
га не позволяли надеждам зайти слишком далеко. Боюсь,
мать все-таки позволяла; если это так, что объясняется
ее добротой, отец не упускал случая указать ей на это
("Самое бесперспективное, Маруся, -- объявлял он, --
это прожектерство"). Что до него, то я вспоминаю, как
солнечным полднем вдвоем мы гуляли по Летнему саду,
когда мне было не то девятнадцать, не то двадцать лет.
Мы остановились перед дощатой эстрадой, на которой
морской духовой оркестр играл старые вальсы: он хотел
оделать несколько фотографий. Белые мраморные статуи
вырисовывались тут и там, запятнанные леопардово-зебро-
выми узорами теней, прохожие шаркали по усыпанным гра-
вием дорожкам, дети кричали у пруда, а мы говорили о
войне и немцах. Глядя на оркестр, я поймал себя на том,
что спрашиваю отца, чьи концлагеня, на его взгляд, были
хуже: нацистские или наши. "Что до меня, -- последовал
ответ, -- то я предпочел бы превратиться в пепел сразу,
нежели умирать медленной смертью, постигая сам про-
цесс". И продолжал фотографировать.
1985
Посвящается позвоночнику
Сколь бы чудовищным или, наоборот, бездарным день
ни оказался, вы вытягиваетесь на постели и -- больше вы
не обезьяна, не человек, не птица, даже не рыба. Гори-
зонтальность в природе -- свойство скорее геологичес-
кое, связанное с отложениями: она посвящается позвоноч-
нику и рассчитана на будущее. То же самое в общих чер-
тах относится ко всякого рода путевым заметкам и воспо-
минаниям; сознание в них как бы опрокидывается навзничь
и отказывается бороться, готовясь скорее ко сну, чем к
сведению счетов с реальностью.
Записываю по памяти: путешествие в Бразилию. Ника-
кое не путешествие, просто сел в самолет в девять вече-
ра (полная бестолковщина в аэропорту: "Вариг" продал
вдвое больше билетов на этот рейс, чем было мест; в ре-
зультате обычная железнодорожная паника, служащие (бра-
зильцы) нерасторопны, безразличны; чувствуется госу-
дарственность -- национализированность -- предприятия:
госслужащие). Самолет битком; вопит младенец, спинка
кресла не откидывается, всю ночь провел в вертикальном
положении, несмотря на снотворное. Это при том, что
только 48 часов назад прилетел из Англии. Духота и т.
д. В довершение всего прочего, вместо девяти часов лету
получилось 12, т. к. приземлились сначала в Сан-Пауло
-- под предлогом тумана в Рио, -- на деле же потому,
что у половины пассажиров билеты были именно до Сан-Па-
уло.
От аэропорта до центра такси несется по правому
(?) берегу этой самой Январской реки, заросшему порто-
выми кранами и заставленному океанскими судами, сухог-
рузами, танкерами и т. п. Кроме того, там и сям громоз-
дятся серые (шаровые) громады бразильского ВМФ. (В одно
прекрасное утро я вышел из гостиницы и увидел входящую
в бухту цитату из Вертинского: "А когда придет бразиль-
ский крейсер, капитан расскажет вам про гейзер...")
Слева, стало быть, от шоссе пароходы, порт, справа, че-
рез каждые сто метров, группы шоколадного цвета под-
ростков играют в футбол.
Говоря о котором, должен заметить, что удивляться
успехам Бразилии в этом виде спорта совершенно не при-
ходится, глядя на то, как здесь водят автомобиль. Что
действительно странно при таком вождении, так это чис-
ленность местного населения. Местный шофер -- это по-
месь Пеле и камикадзе. Кроме того, первое, что бросает-
ся в глаза, это полное доминирование маленьких "фолькс-
вагенов" ("жуков"). Это, в сущности, единственная марка
автомобилей, тут имеющаяся. Попадаются изредка "рено",
"пежо" и "форды", но они в явном меньшинстве. Также те-
лефоны -- все системы Сименс (и Шуккерт). Иными слова-
ми, немцы тут на коне, так или иначе. (Как сказал Франц
Беккенбауэр: "Футбол -- самая существенная из несущест-
венных вещей".)
Нас поселили в гостинице "Глория", старомодном че-
тырнадцатиэтажном сооружении с весьма диковинной систе-
мой лифтов, требующих постоянной пересадки из одного в
другой. За неделю, проведенную в этой гостинице, я при-
вык к ней как к некоей утробе -- или внутренностям ось-
минога. В определенном смысле гостиница эта оказалась
куда более занятной, чем мир вовне. Рио -- вернее, та
часть его, к-рую мне довелось увидеть, -- весьма одно-
образный город, как в смысле застройки, так и планиров-
ки; и в смысле богатства, и в смысле нищеты. Двух-трех-
километровая полоса земли между океаном и скальным наг-
ромождением вся заросла сооружениями, а ля этот идиот
Корбюзье. Девятнадцатый и восемнадцатый век уничтожены
совершенно. В лучшем случае вы можете наткнуться на ос-
танки купеческого модерна конца века с его типичным
сюрреализмом аркад, балконов, извивающихся лестниц, ба-
шенок, решеток и еще черт знает чем. Но это -- ред-
кость. И редкость же маленькие четырех-трехэтажные гос-
тиницы на задах в узких улицах за спиной этих оштукату-
ренных громад; улочки, карабкающиеся под углом минимум
в 75 градусов на склоны холмов и кончающиеся вечнозеле-
ным лесом, подлинными джунглями. В них, в этих улицах,
в маленьких виллах, в полудоходных домах живет местное
-- главным образом обслуживающее приезжих -- население:
нищее, немного отчаянное, но в общем не слишком возра-
жающее против своей судьбы. Здесь вечером вас через
каждые десять метров приглашают поебаться, и, согласно
утверждению зап. германского консула, проститутки в Рио
денег не берут -- или, во всяком случае, не рассчитыва-
ют на получение и бывают чрезвычайно удивлены, если
клиент пожелает расплатиться.
Похоже на то, что Его Превосходительство был прав.
Проверить не было возможности, ибо был, что называется,
с утра до вечера занят делегаткой из Швеции, мастью и
бездарностью в деле чрезвычайно напоминавшей К. Х., с
той лишь разницей, что та не была ни хамкой, ни психо-
паткой (впрочем, я тоже был тогда лучше и моложе и, не
представь меня К. тогда своему суженому и их злобствую-
щему детенышу, мог бы даже, как знать, эту бездарность
преодолеть). На третий день моего пребывания в Рио и на
второй этих шведских игр мы отправились на пляж в Копа-
кабане, где у меня вытащили, пока я загорал, четыреста
дубов плюс мои любимые часы, подаренные мне Лиз Франк
шесть лет назад в Массачузетсе. Кража была обставлена
замечательно, и, как ко всему здесь, к делу была прив-
лечена природа -- в данном случае в образе пегой овчар-
ки, разгуливающей по пляжу и по наущению хозяина, пре-
бывающего в отдалении, оттаскивающей в сторону портки
путешественника. Путешественник, конечно же, не запо-
дозрит четвероногое: ну, крутится там собачка одна поб-
лизости, и все. Двуногое же тем временем потрошит ваши
портки, гуманно оставляя пару крузейро на автобус до
гостиницы. Так что об экспериментах с местным населени-
ем не могло быть и речи, что бы там ни утверждал немец-
кий консул, угощая нас производящей впечатление жид-
костью собственного изготовления, отливавшей всеми цве-
тами радуги.
Пляжи в Рио, конечно же, потрясающие. Вообще, ког-
да самолет начинает снижаться, вы видите, что почти все
побережье Бразилии -- один непрерывный пляж от экватора
до Патагонии. С вершины Корковадо -- скалы, доминирую-
щей над городом и увенчанной двадцатиметровой статуей
Христа (подаренной городу не кем иным как Муссолини),
открывается вид на все три: Копакабана, Ипанама, Леблон
-- и многие другие, лежащие к северу и к югу от города,
и на бесконечные горные цепи, вдоль чьих подошв громоз-
дятся белые бетонные джунгли этого города. В ясную по-
году у вас впечатление, что все ваши самые восхититель-
ные грезы суть жалкое, бездарное крохоборство недораз-
витого воображения. Боюсь, что пейзажа, равного здесь
увиденному, не существует.
Поскольку я пробыл там всего неделю, все, что я
говорю, не выходит, по определению, за рамки первого
впечатления. Отметив сие, я могу только сказать, что
Рио есть наиболее абстрактное (в смысле культуры, ассо-
циации и проч.) место. Это город, где у вас не может
быть воспоминаний, проживи вы в нем всю жизнь. Для вы-
ходца из Европы Рио есть воплощение биологической нейт-
ральности. Ни один фасад, ни одна улочка, подворотня не
вызовут у вас никаких аллюзий. Это город -- город двад-
цатого века, ничего викторианского, ничего даже колони-
ального. За исключением, пожалуй, здания пассажирской
пристани, похожей одновременно на Исаакиевский собор и
на вашингтонский Капитолий. Благодаря этому безличному
(коробки, коробки и коробки), имперсональному своему
характеру, благодаря пляжам, адекватным в своих масшта-
бах и щедрости, что ли, самому океану, благодаря интен-
сивности, густоте, разнообразию и совершенному несовпа-
дению, несоответствию местной растительности всему то-
му, к чему европеец привык, Рио порождает ощущение пол-
ного бегства от действительности -- как мы ее привыкли
себе представлять. Всю эту неделю я чувствовал себя,
как бывший нацист или Артюр Рембо: все позади -- и все
позволено.
Может быть даже, говорил я себе, вся европейская
культура, с ее соборами, готикой, барокко, рококо, за-
витками, финтифлюшками, пилястрами, акантами и проч.,
есть всего лишь тоска обезьяны по утраченному навсегда
лесу. Не показательно ли, что культура -- как мы ее
знаем -- и расцвела-то именно в Средиземноморье, где
растительность начинает меняться и как бы обрывается
над морем перед полетом или бегством в свое подлинное
отечество... Что до конгресса ПЕН-Клуба, это было ме-
роприятие, отчаянное по своей скуке, бессодержательнос-
ти и отсутствию какого бы то ни было отношения к лите-
ратуре. Марио Варгас Льоса и, может быть, я были единс-
твенными писателями в зале. Сначала я просто решил иг-
норировать весь этот бред; но, когда вы встречаетесь
каждое утро с делегатами (и делегатками -- в деле гад-
кими делегатками) за завтраком, в холле, в коридоре и
т. д., мало-помалу это начинает приобретать черты ре-
альности. Под конец я сражался как лев за создание от-
деления ПЕН-Клуба для вьетнамских писателей в изгнании.
Меня даже разобрало, и слезы мешали говорить.
Под конец составился октаэдр: Ульрих фон Тирн со
своей женой, Фернандо Б. (португалец) с женой, Томас
(швед) с дамой из Дании и с Самантхой (т. е. сканди-
навский треугольник в его случае) и я со своей шведкой.
Плюс-минус два зап. немца, полупьяные, полусумасшедшие.
В этой -- или примерно в этой -- компании мы слонялись
из кабака в кабак, выпивали и закусывали. Каждый день,
натыкаясь друг на друга за завтраком в кафетерии гости-
ницы или в холле, мы задавали друг другу один и тот же
вопрос: "Что вы поделываете вечером?" -- и в ответ раз-
давалось название того или иного ресторана или же наз-
вание заведения, где отцы города собирались нас сегодня
вечером развлекать с присущей им, отцам, торжественной
глупостью, спичами и т. п. На открытие конгресса прибыл
президент Бразилии генерал Фигурейдо, произнес три фра-
зы, посидел в президиуме, похлопал Льосу по плечу и
убыл в сопровождении огромной кавалькады телохраните-
лей, полиции, офицеров, генералов, адмиралов и фотогра-
фов всех местных газет, снимавших его с интенсивностью
людей, как бы убежденных, что объектив в состоянии не
столько запечатлеть поверхность, сколько проникнуть
внутрь великого человека. Занятно было наблюдать всю
эту шваль, готовую переменить хозяина ежесекундно,
встать под любое знамя в своих пиджаках и галстуках, и
белых рубашках, оттеняющих их напряженные шоколадные
мордочки. Не люди, а какая-то помесь обезьяны и попу-
гая. Плюс преклонение перед Европой и постоянные цитаты
то из Гюго, то из Мальро с довольно приличным акцентом.
Третий мир унаследовал все, включая комплекс неполно-
ценности Первого и Второго. "Когда ты улетаешь?" --
спросил меня Ульрих. "Завтра", -- ответил я. "Счастли-
вец", -- сказал он, ибо он оставался в Рио, куда прибыл
вместе со своей женой -- как бы спасать брак, что,
впрочем, ему уже вполне, по-моему, удалось. Так что он
будет покамест торчать в Рио, ездить на пляж с местными
преподавателями немецкой литературы, а по ночам, в гос-
тинице, выскальзывать из постели и в одной рубашке сту-
чаться в номер Самантхи. Ее комната как раз под его
комнатой. 1161 и 1061. Вы можете обменять доллары на
крузейро, но крузейро на доллары не обмениваются.
По окончании конгресса я предполагал остаться в
Бразилии дней на десять и либо снять дешевый номер
где-ниб. в районе Копакабаны, ходить на пляж, купаться
и загорать, либо отправиться в Бахию и попытаться под-
няться вверх по Амазонке и оттуда в Куско, из Куско --
в Лиму и назад, в Нью-Йорк. Но деньги были украдены, и,
хотя я мог взять 500 дубов в "Америкен экспресс", де-
лать этого не стал. Мне интересен этот континент и эта
страна в частности; но боюсь, что я видел уже на этом
свете больше, чем осознал. Дело даже не в состоянии
здоровья. В конце концов, это было бы даже занятно для
русского автора -- дать дуба в джунглях. Но невежество
мое относительно южной тематики столь глубоко, что даже
самый трагический опыт вряд ли просветил бы меня хоть
на йоту. Есть нечто отвратительное в этом скольжении по
поверхности с фотоаппаратом в руках, без особенной це-
ли. В девятнадцатом веке еще можно было быть Жюль Вер-
ном и Гумбольдтом, в двадцатом следует оставить флору и
фауну на их собственное усмотрение. Во всяком случае, я
видел Южный Крест и стоял лицом к солнцу в полдень,
имея запад слева и восток -- справа. Что до нищеты фа-
вел, то да простят мне все те, кто на прощение спосо-
бен, она -- нищета эта -- находится в прямой пропорции
к неповторимости местного пейзажа. На таком фоне (океа-
на и гор) социальная драма воспринимается скорее как
мелодрама не только ее зрителями, но и самими жертвами.
Красота всегда немного обессмысливает действительность;
здесь же она составляет ее -- действительности -- зна-
чительную часть.