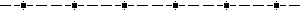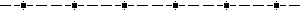
Публий. Да положить я хотел на "Метаморфозы"!..
Туллий ([продолжая]). Обрати внимание на оговорку
эту: про предчувствия. Да еще -- певцов. Вишь, понесло
его вроде: "...и на вечные веки во славе..." Так нет:
останавливается, рубит, так сказать, сук, сидючи на ко-
ем, распелся: "ежели только певцов предчувствиям ве-
рить" -- и только потом: "пребуду". Завидная все-таки
трезвость.
Публий ([с отчаянием]). Да какое это имеет отноше-
ние?! Ты -- про предчувствия, а они -- новую сечку ус-
танавливают! Это и есть предчувствие!
Туллий. А то отношение, что он прав оказался.
Действительно, "на веки вечные" и действительно "во
славе". А почему? Потому что сомневался. Это "ежели
только певцов предчувствиям верить" -- от сомнения. По-
тому что у него тоже впереди ничего, кроме "вечных ве-
ков", не было. Кроме Времени то есть. Потому что тоже
на краю пространства оказался -- когда его, пацана тво-
его тезка, Октавиан Август, из Рима попер. Только он на
горизонтальном краю был, а мы -- на вертикальном...
"Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Ри-
ма..." Что да, то да: раскинулась. Все-таки тыща почти
метров над уровнем моря. Да еще две тыщи лет спустя...
А если их еще перемножить... Этого он, конечно, не
предполагал -- что его в разреженном воздухе читать бу-
дут.
Публий. Что значит быть классиком!
Туллий. Осел ты, Публий; осел, а не варвар. Верней
-- варвар и его осел. ...Как сказано -- у поэта. Про
другого поэта... Классик классиком становится, Публий,
из-за времени. Ни того, которое после его смерти прохо-
дит, а того, которое для него и при жизни и потом --
одно. И одно оно для него, заметь, уже при жизни. Пото-
му что поэт -- он всегда дело со Временем имеет. Моло-
дой или старый -- все равно. Даже когда про пространс-
тво сочиняет. Потому что песня -- она что? Она -- реор-
ганизованное Время... Любая. Даже птичкина. Потому что
звук -- или там нота -- он секунду занимает, и другой
звук секунду занимает. Звуки, они, допустим, разные, а
секунды -- они всегда те же. Но из-за звуков, Публий,
-- из-за звуков и секунды становятся разными. Спроси
канарейку свою -- ты же с ней разговариваешь. Думаешь,
она о чем поет? о Времени. И когда не поет -- тоже о
Времени.
Публий. Я думал -- просто жрать хочется. Когда по-
ет -- надеется. Не поет -- бросила.
Туллий. Кстати, я тут ей проса достал. Два кг.
Больше денег не было.
Публий. Знаю. На виа деи Фунари купил.
Туллий. Ага, в "Сельве". Откуда ты знаешь?
Публий. Претор сказал... Это где та стела, на ко-
торой "Мементо Мори" написано?
Туллий. Ага. Я там гетеру одну когда-то знал. Со-
вершенная прелесть была. Брюнетка, глаза -- как шмели
мохнатые. Своих павлинов держала. Грамоте знала; с бог-
дыханом китайским была знакома... Откупщик ее, за кото-
рого она потом своим чередом замуж вышла, эту "Сельву"
и открыл -- птичьим кормом чтоб торговала, при деле бы-
ла. Скотина он был порядочная, с мечом за мной по всему
Форуму гонялся...
Публий. Звучит элегически.
Туллий. Это от избытка глаголов прошедшего времени.
[Пауза.]
Пофехтуем?
Публий. С утра пораньше? Как сказала девушка леги-
онеру.
Туллий. Именно. Размяться. Кровь разогнать...
Взвешивался сегодня?
Публий. Нет еще. Но вчера -- да. Та же самая исто-
рия -- полнею. Почему это, интересно, прибавить гораздо
проще, чем потерять? Теоретически должно быть одинаково
просто. Либо одинаково сложно. ([Встает и подходит к
пульту.]) Мечи или кинжалы?
Туллий. Мечи. А то у тебя изо рта...
Публий. У меня только пахнет. У тебя вываливает-
ся... Парфянские или греческие?
Туллий. Греческие.
Публий ([нажимая на кнопку пульта, где появляется
текст заказа]). Что все-таки природа хочет сказать
этим? Что увеличиваться в объеме -- естественней, чем
уменьшаться?
[Появляются мечи; Публий и Туллий разбирают их,
продолжая беседовать.]
И -- до каких пределов? То есть, с одной стороны,
когда развиваешься -- из мальчика в мужа -- то увеличи-
ваешься. На протяжении лет примерно двадцати-тридцати.
И -- возникает инерция. Но почему именно живот? Оттого
что вперед двигаешься, что ли?.. С другой стороны --
куда двигаешься-то? Известно, куда. Где он вообще не
понадобится. Ни его отсутствие. На том-то свете...
Туллий ([примеряясь к мечу]). Может, чем больше
объем, тем подольше на этом задержишься. Гнить, по
крайней мере, дольше будешь. Распад, Публий, тоже форма
присутствия.
Публий. Да -- если не кремируют. От претора, ко-
нечно, зависит. ...Начали! До первой крови.
Туллий. До первой крови.
[Фехтуют.]
Публий. Но если увеличиваться ([выпад]) естествен-
но, то уменьшаться ([отскок]) -- искусственно.
Туллий. А что плохого в искусственном? ([Выпад.])
Все искусственное естественно. ([Еще выпад.]) Точней,
искусственное начинается там, где естественное ([отс-
кок]) кончается.
Публий. А где кончается ([выпад]) искусственное?
Туллий. Весь ужас в том, Публий ([контрвыпад]),
что искусственное нигде не кончается. Естественное ес-
тественно и кончается. ([Теснит Публия к его алькову.])
То есть становится искусственным. А искусственное не
кончается ([выпад]) нигде ([еще выпад]), никогда ([еще
выпад]), ни под каким видом. ([Публий падает в аль-
ков.]) Потому что за ним ничего не следует. И, как ска-
зано у поэта,
это хуже, чем детям
сделанное бобо.
Потому что за этим
не следует ничего.
Публий. У какого поэта?
Туллий. У восточного.
Публий. Может, искусственное, если долго продолжа-
ет быть искусственным, в конце концов становится ес-
тественным. Яичко-то становится курочкой. А ведь, глядя
со стороны, ни за что не скажешь. Изнутри -- тоже вряд
ли. Потому что искусственным выглядит... Мне всегда ка-
залось, Туллий, на яичко глядя, -- особенно утром, ког-
да разбиваешь, чтоб глазунью сделать, -- что существо-
вала некогда цивилизация, наладившая выпуск консервов
органическим способом.
Туллий. В этом смысле мы все -- консервы. Чья-то
будущая яичница. Если, конечно, не кремируют... Меч
возьми.
Публий ([нехотя выбирается из алькова]). Отяжелел
я. Вот в Ливии, помню... ([Внезапно в сердцах.]) Да на
кой ляд эту форму поддерживать! Худеть! Особенно -- ес-
ли чья-то будущая яичница... Либо если кремируют... Да
и тебе же лучше: чем я толще, тем больше пространства
занимаю. Тем больше тебе времени этого твоего остает-
ся-- Ведь всем все равно, с тебя начиная, есть ли Пуб-
лий Марцелл, нет ли его. И если даже есть, какое кому
дело, как он выглядит. Кого это интересует? Богов? При-
роду? Цезаря? Кого?.. Богам вообще на все положить. Це-
зарю -- тоже. В этом смысле он -- точно помазанник их-
ний. Природе?.. Безразличны ли природе очертания дере-
ва?
Туллий. Похоже на тему для диспута.
Публий. Я думаю, природе на силуэт дерева нак-
ласть! Хотя оно его четыре раза в году меняет. Но в
этом-то безразличие и сказывается. Пресыщенность. Лис-
тики обдирает... А у него, может, только и есть что
листики. Оно, может, всю дорогу только тем и занято бы-
ло, что их пересчитывало. Денежку свою зелененькую зо-
лотую... И -- рраз...
Туллий. Ну, распустил сопли. Меч, говорю, возь-
ми... И вообще -- вечнозеленые тоже есть. Лавр, допус-
тим. Хвоя. И так далее.
Публий. Меч я, допустим, могу взять. Дальше что?
Скрестим мы их. Разойдемся. Выпад, контрвыпад, дистан-
ция... Дальше что? Устанем. Дальше что? Ты выиграешь --
я проиграю. Или наоборот. Какая разница? Кто этот пое-
динок увидит? Даже если я тебя убью -- или наоборот.
Хотя мы договорились. До первой крови. Но -- кто это
увидит? Кто это добро смотреть станет? Тем более в пря-
мой трансляции. Даже претор не будет. Претор это в за-
писи посмотрит и, если смертоубийства нет, еще, неровен
час, запись сотрет. В конце рабочего дня. Не потому,
что пленки жалко или бобины тоже смазывать надо: потому
что сюжета нет.
Туллий. Нет. Они пишут все без разбору. Стирать им
декретом запрещено. Мало ли -- можно почерк преступника
установить. Даже если преступление и не совершено. Все
равно -- почерк. Возможного преступника. Чтоб раскрыть
возможное преступление. Что есть формула реальности...
Так что сюжет есть, Публий. Сюжет всегда возникает не-
зависимо от автора. Больше того -- независимо от дейс-
твующих лиц. От актера. От публики. Потому что подлин-
ная аудитория -- не они. Не партер и галерка. Они тоже
действующие лица. Верней, бездействующие. У нас один
зритель -- Время. Так что -- пофехтуем.
Публий ([нехотя беря меч]). Ну, от этого зрителя
аплодисментов хрен дождешься. Даже если выиграешь. Тем
более если проиграешь. Гарде.
[Фехтуют.]
Туллий. Потому что выигрыш ([выпад]) -- мелодрама
и проигрыш ([снова выпад]) -- мелодрама. ([Отступая под
натиском Публия.]) Побег -- мелодрама, самоубийство --
тоже. Время, Публий, большой стилист... ([Наступает.])
Публий. Что же ([защищаясь]) не мелодрама? Туллий. А
вот ([выпад]) -- фехтование. ([Отступает назад.]) Вот
это движение -- взад-вперед по сцене. Наподобие маятни-
ка. Все, что тона не повышает... Это и есть искусс-
тво... Все, что не жизни подражает, а тик-так делает...
Все, что монотонно... и петухом не кричит... Чем моно-
тонней, тем больше на правду похоже.
Публий ([бросая меч]). Туше; но так можно махаться
до светопреставления.
Туллий ([продолжая еще некоторое время проделывать
соответствующие движения мечом]). И во время оного. И
после. И после-после-после-после... До первой крови. До
второй. До-последней-капли-крови... Вот -- почему --
люди -- воюют... Уфф... Мы ж договаривались: до пер-
вой...
Публий. Ты мне колено задел.
Туллий. Ох, прости. Не заметил. Надеюсь, несерьез-
но.
Публий. Пустяки. Царапина. Как сказал лев гладиа-
тору...
Туллий. Вата и йод в аптечке. Перевяжи... Пойду
душ приму, потный весь.
Публий ([задумчиво]). Не-е, пусть сочится. По
крайней мере, доказывает, что -- еще не статуя. Не из
мрамора. Что -- не классик. Поскольку есть колено.
Вполне -- в своем роде -- классическое. Не хуже, чем у
"Бдения Алкивиада". Хотя видел только копию. Или --
"Дискобола". Тоже копия. И там не колено главное... Все
равно -- классическое. Таким коленом наместники местных
царьков давят. На мокром полу мраморной купальни. На
своей загородной вилле. Вечер лилового цвета... Све-
тильники в нишах трепещут, масло плавится. Пальмы кро-
нами перешептываются, как ожившие иероглифы. И царек,
сучара, на мокром полу извивается, воздух ртом ловит.
Не-е, хорошее колено. Римское. Что бы там Туллий ни на-
говаривал на пленку... Пусть сочится... пусть. И даже
еще расковыряю. ([Берет меч и, морщась, надрезает кожу:
после этого выдавливает пальцами из надреза кровь. За
этим занятием -- надрезыванием и выдавливанием -- и
застает его выходящий из душа Туллий. Некоторое время
он наблюдает за Публием, потом делает шаг к нему.])
Туллий. Ты что?! Совсем охренел!? Прекрати сию же
минуту! Варвар, мать твою! Дикарь! Где вата?
Публий ([поднимая глаза, в которых слезы]). С лег-
ким паром, Туллий.
Туллий. Идиот недоделанный! ([Кидается к аптечке,
достает йод и вату и бросается назад.]) Вспомнил свои
азиатские штучки. Сколько волка ни корми... ([Наклоня-
ется к Публию, чтоб перевязать колено.]) Люди на Кано-
пус высаживаются, а тут...
Публий ([отмахивается]). Оставь меня в покое! Не
трогай.
Туллий. Ну да. Сейчас мы впадем в транс. Начнем
раскачиваться. Знак себе на лбу нарисуем. И споем
что-нибудь лишенное текста. Так, да? ([Снова наклоняет-
ся к Публию.]) Дай ногу, не дури!
Публий. Отойди, говорю. ([Делает угрожающий жест
мечом.]) Оставь меня в покое. Не трогай. Пусть сочит-
ся...
Туллий. Да прекрати ты этот...
Публий. Пускай сочится. Она, может, единственное
доказательство, у меня оставшееся, что я действительно
жив. А ты ее остановить хочешь. На кого ты работаешь?
Туллий. Ты... по-моему... сошел с ума.
Публий. Телекамеры эти вокруг. Всех подозревать
начинаешь. Почем я знаю, что ты не робот. С камерой
встроенной. Вживленной органически. Может, даже помимо
твоей воли. Еще при Тиберии эксперименты начали. Я чи-
тал. На зайчиках. Тем более -- вернулся. Тогда и вживи-
ли... Пускай сочится. По крайней мере, хоть буду знать,
что сам -- не робот. А то сомневаться начал... может,
все -- все -- тебя включая -- на пленку записано. И мне
показывают. Стереоскопически. Включая запахи. Как сад и
лебеди. Или берег моря. Потому и декорация одна и та
же: бюджет ограниченный. Или -- классицизм. Три единс-
тва блюдут. И почему бы и нет? Если между классицизмом
и натурализмом выбирать, я бы и сам классицизм выбрал.
И почему отказывать компьютеру в снобизме? Снобизм тоже
форма отчаянья, в конце концов, классицизм в него зап-
рограммирован. Не с потолка взялся. И говоря о потолке,
Туллий, смотрю я на него и не знаю: я ли на него смотрю
-- или он на меня смотрит...
Туллий. Чего ты городишь?..
Публий. Весь вопрос в том, на кого ты работаешь.
Что я на него смотрю, это и ежу ясно. Что он на меня...
но если да, если он осуществляет за мной наблюдение --
то он мне больше внимания уделяет, чем я ему. И кто
тогда здесь одушевленный объект? Конечно, если ты не
робот, то тогда внимание его распыляется... Нет, пусть
сочится... Он этого еще не видел. Что-то новенькое...
Туллий. Перевяжи, говорю. Смотреть противно.
Публий. Значит -- не робот... Хотя, с другой сто-
роны, я бы тоже трещины в потолке забздел..! Трещина-то
не записана. Только возможность катастрофы отличает ре-
альность от фикции.
Туллий. Мелодрама. У всех варваров врожденное
чувство мелодрамы.
Публий ([кричит]). Должен же я знать место, в ко-
тором умру!!!
Туллий. А-а-а... вон оно что. ([Кидает Публию бин-
ты и вату.]) На, перевяжи. ([Отходит к окну: начинает,
глядя в окно, говорить, но потом спохватывается и пово-
рачивается сначала лицом, потом -- спиной к публике.
Когда он стоит спиной, он как бы подпирает воображаемую
стену, которой служит рампа.]) Люди, Публий... люди де-
лятся на тех, для которых важно -- где, и на тех, для
которых важно -- когда... Есть еще, конечно, третья
группа. Для которых важно -- как. Но это -- как правило
-- молоденькие, и они не в счет.
Публий. Да кто ты такой!? Откуда ты знаешь, на ко-
го люди делятся?
Туллий. Только на эти две категории. Сам...
э-э-э... процесс обусловливает их количество. Так ска-
зать, ограничивает выбор. И их только две.
Публий. Ну да; и я, ясное дело, выбрал неправиль-
но. Обпачкался. И то: хрен ли мудрить: раз пожизненно
-- то где еще? Как не в этих четырех... тьфу... в
этом... как его?..
Туллий. Пи-Эр-квадрате?
Публий. Во-во. В Пи-Эр-квадрате. В своей кровати.
При всеобщем обозрении. На миру и смерть красна... Это
самая большая порнография и есть -- это показывать. Это
-- и еще роды. Потому что это всегда не ты. Даже когда
свои собственные роды потом смотришь. В записи. Все
равно -- не ты.
Туллий ([достает с полки "Свод Законов"]). Буква
"П"... так ..."Порнография". Всякий неодушевленный
предмет, вызывающий эрекцию..." Вот что говорит по это-
му поводу Тиберий.
Публий. Да что ты мне этого кретина все время в
нос тычешь!? Тиберий то, Тиберий се. Прямо как христиа-
не со своим как его... неважно, только тридцать три го-
да ему и было... Что он знал?.. А если тебе под сорок
-- тогда как? или под пятьдесят?.. На этом и погоре-
ли... Тиберий... Неодушевленный предмет... Эрекция...
Самая большая эрекция -- это когда не ты умираешь...
Туллий. Н-да, будь я последним человеком на зем-
ле...
Публий. ...у тебя бы стоял, как эта Башня... С
другой стороны, зачем отказывать ближнему в удовольст-
вии. Пускай записывают. Или транслируют. Может, послед-
нюю фразу удачно скажу... В конце концов, Туллий, я
против всего этого ([делает широкий жест рукой])
Пи-Эр-квадрата не возражаю. Клаустрофобия, конечно, ра-
зыгрывается, как подумаешь, что именно здесь... И сбе-
жать хочется не столько отсюда как места жизни, как от-
сюда как места смерти... То есть, я, Туллий, не против
смерти -- не пойми меня превратно. И я не против Башни
и не за свободу... Свобода, может, и не лучше Башни,
кто знает... я не помню... Но свобода есть вариация на
тему смерти. На тему места, где это случится. Иными
словами, на тему гроба... А то здесь гроб уже -- вот
он. Неизвестно только -- когда. Где -- это ясно. Яс-
ность меня, Туллий, как раз и пугает. Других -- неиз-
вестность. А меня -- ясность.
Туллий. Да что плохого в этом помещении... Ну, пе-
ребрали, наверно, малость со скрытыми камерами. Так это
только со свободой сходство усиливает... К тому же, кто
знает, может, ты и прав, может, и вправду нам все это
просто показывают. И скорей всего -- в записи. Вполне
возможно, что все это суть условность. Будь это реаль-
ностью, не вызывало б столько эмоций.
Публий. Тут я и умру -- реальность это или услов-
ность...
Туллий. Это и есть недостаток пространства, Пуб-
лий, это и есть... Главный, я бы сказал... Что в нем
существует место, в котором нас не станет... Потому,
видать, ему столько внимания и уделяют.
Публий. Ну, у Времени тоже такие места есть.
Сколько влезет...
Туллий ([назидательно]). У Времени, Публий, есть
все, кроме места. Особенно с тех пор, как числа отмени-
ли... А пространство... любая его точка может стать...
Поэтому его так и живописуют. Все эти пейзажи и ланд-
шафты. Этюды с натуры. Чистое подсознание... Со Време-
нем этот номер не проходит... Так, разве что портрет
там или натюрморт...
Публий. И тебе все равно -- где?
Туллий. Мне все равно -- где, и мне все равно --
когда.
Публий. Вот они, римские доблести! Стойкость пат-
рициев! Муции Сцеволы! Руки жареные! Если тебя не инте-
ресует ни где, ни когда -- что же тебя интересует?
Как?..
Туллий. Меня интересует -- сколько.
Публий. Сколько -- чего?
Туллий. Сколько часов бодрствования представляют
собой минимум, необходимый компьютеру для определения
моего состояния как бытия. То есть, что я -- жив. И
сколько таблеток я должен единовременно принять, дабы
обеспечить этот минимум?
Публий. ???
Туллий. Не пойми меня превратно. Дело не в том,
что мне надоело с тобой разговаривать. Хотя отчасти да.
И не в том, что я не спал всю ночь. Что тоже правда.
Просто действительно хочется уподобиться Времени. То
есть, его ритму. Поскольку я не поэт и не могу создать
новый... Единственное, что я хотел бы попытаться --
сделать свое бытие чуть монотонней. Менее мелодраматич-
ным. Больше на зрителя рассчитанным... Грубо говоря --
спать больше. Восемь часов сна, шестнадцать бодрствова-
ния: эту версию Времени я знаю. Может, это можно пере-
играть.
Публий ([ошеломленный всем услышанным]). То есть
как?
Туллий. Скажем, шестнадцать сна и восемь бодрство-
вания. Или восемнадцать сна, шесть бодрствования. Чем
меньше бодрствования, тем больше сна -- и тем интерес-
ней версия Времени. Пространство -- оно, вишь, Публий,
всегда одинаковое -- горизонтальное. А Время... Я уже
пытался кое-что. Ну, там спать днем, не спать ночью.
Или бдеть трое суток подряд и наоборот. Но, во-первых,
в этих условиях ([кивает на окно]) дополнительная энер-
гия расходуется на определение дня и ночи. Да и сутки
просто так не измеришь. А во-вторых, -- и это беспокоит
меня сильней всего -- есть некий минимум бодрствования,
после наблюдения которого компьютер прекращает подачу
пищи. И тогда придется выпрашивать у тебя. Скорей все-
го, менять на снотворное. Что испортило бы весь замы-
сел. Не говоря уже о том, что вступили бы в отношения,
не предусмотренные Тиберием при организации Башни и,
скорее всего, неприятные нам самим...
Публий ([быстро]). Что ты имеешь в виду под "неп-
риятными"?
Туллий. Ну, там меновая торговля, воровство, по-
дозрения, доносы Претору... ты же жил в Риме... И пока
бы я объяснил Претору, в чем дело, и пока бы он согла-
сился поверить...
Публий. Может, Претора и спросить, сколько табле-
ток тебе можно?
Туллий. Что ты! Что ты! ([Шепотом, поднося палец к
губам.]) Я же не имею права на снотворное больше. Я же
свое выбрал еще в прошлом месяце... Нет, никто ничего
знать не должен... Тайна... В конце концов, если поэт
интересуется Временем профессионально, то я -- люби-
тельски. А любитель действует по наитию... Вот ты, нап-
ример, -- сколько ты на ночь принимаешь?
Публий. Две -- две с половиной. Три.
Туллий. Значит так, -- три таблетки -- восемь ча-
сов сна. Шестнадцать часов, стало быть, равняется --
шести таблеткам. Запомним: шестнадцать -- шести. То
есть шесть -- шестнадцати. Допустим, нам нужно семнад-
цать часов. Чтобы получить семнадцать, надо увеличить
дозу с шести на -- сколько? Стоп. Делим шестнадцать на
шесть. То есть часы на таблетки. В итоге получаем...
Стоп. Вздор. Делим таблетки на часы. Шесть на шестнад-
цать. Получаем, прежде всего, дробь. Публий, ты следишь
за ходом мысли?
Публий. С завистью и с восхищением.
Туллий. Погоди, то ли еще будет. Значит, дробь
плюс... Сбился. В общем даже если четными оперировать,
то получается: одна таблетка равна четырем часам сна.
Ничего себе таблеточка! Дает! Значит, одна четверть
таблетки равна часу сна. Значит, если мы хотим приба-
вить семнадцать часов, нам надо... нам надо... штук
семь с хвостиком... Так что ли... ([Неуверенно.]) Нам
надо...
Публий. Да на кой тебе Время? Сроку, что ли, не
хватает? Ведь -- пожизненно!
Туллий. В том-то и дело, друг Публий, что пожиз-
ненно переходит в посмертно. И если это так, то и пос-
мертно переходит в пожизненно... То есть, при жизни су-
ществует возможность узнать, как будет там... И римля-
нин такой шанс упускать не должен.
Публий. Подглядеть, значит?..
Туллий ([почти кричит]). Оно же -- подглядывает!..
Публий. Подсмотреть? Через дырочку?..
Туллий. В известном смысле. Но -- не глядя. С зак-
рытыми глазами. В горизонтальном положении.
Публий. Когда мы когортой в Галлии стояли...
Туллий. Публий! умоляю! Ради всего святого...
Публий. ...я одного грека знал. До чего был предп-
риимчивый. Домами торговал. И был у него один дом. Шес-
ти или восьмиэтажный -- не помню. Нормальные семьи жи-
ли. Муж, жена, ребенок. Так он что, бестия, придумал?
Он им вместо лампочек миниатюрные телекамеры вкрутил.
За три сестерция можно было целый час семейную жизнь
наблюдать. Совокупление то есть. Весь цимес был именно
в том, что сегодня они могли решить не делать этого...
И плакали твои сестерции. А могли и наоборот...
Туллий. Чего ради ты мне это рассказываешь?
Публий. Очереди к нему стояли! Потому что -- эле-
мент вероятности. Это знаешь как распаляет! И особенно,
если у них ребеночек... И они его сначала спать уклады-
вают... Или он среди дела просыпается... и вякать заво-
дится. Что ты!.. И она, уже на полном взводе, со станка
слезает и в детскую канает... И особенно, если блондин-
ка... И потом возвращается, а у него эта вещь...
Туллий. Прекрати, я сказал!
Публий. Колоссально он заработал, грек тот. Целую
сеть потом открыл. "Аргус" компания называлась. Не слы-
шал?
Туллий. Нет.
Публий. Значит, своим умом дошел.
Туллий ([пересчитывает таблетки во флаконе]). В
старые добрые времена, Публий, таким, как ты, язык вы-
дирали, уши обрезали и глаза выкалывали. Или кожу живь-
ем сдирали. Или кастрировали... Может, я только потому
и терплю все это, что казнить уже наказанного --
во-первых, камерой, во-вторых, тем, как твои мозги уст-
роены, -- получается тавтология. Театр в театре.
Публий. Или как если тебе в собачье дерьмо сту-
пить... ([Прикладывает ладонь к животу.]) Полдник ско-
ро.
Туллий. Пойду лягу. Все-таки ночь не спал. ([Пе-
ресчитывает таблетки.]) Спать, спать... Не съедай мою
порцию, а?.. Что у нас сегодня?.. Паштет из голубиной
печенки и... форель с яйцами аиста... Н-да, наконец-то
рыба... Яйца, по крайней мере, оставь... позавтра-
кать... Возьму для верности ([высыпает на ладонь]) во-
семь. ([Наливает вина в бокал; глотает снотворное и за-
пивает.])
Публий. Не уходи, постой... Что же я-то делать бу-
ду? Шестнадцать часов подряд!
Туллий. Семнадцать.
Публий. Тем более! Ты обо мне подумал? Эгоист!
Патриций! Все вы такие! За это вас и не любят... Что
я-то делать буду? На меня-то тебе наплевать, да?
Туллий. Не ори! Телек посмотришь. Музыка опять же.
Прогулка потом. Книжки... Вон классиков этих почитай...
Классика вообще приятней читать, когда знаешь, как он
выглядел...
Публий. Да с кем же я разговаривать буду?! Вслух,
что ли. Да я ж... Семнадцать часов. Один. Да это ж с
ума сойти... Да я ж не выдержу...
Туллий. Да чего там выдерживать, о чем ты толку-
ешь. ([Зевает.]) Наоборот -- в покое тебя оставлю...
([Зевает.]) А когда проснусь, расскажу, чего видел...
про Время... там тоже показывают... ([Зевает.])
Публий. Не зевай!.. ([Хватает Туллия за полу то-
ги.]) Постой! Не ложись еще... Как же так... ([хватает-
ся за голову]) ...один в этом Пи-Эр-квадрате... как
точка, циркулем обведенная... Да что ж ты, подлец, де-
лаешь... Будто я не человек... Не зевай!!! Ой, у меня
голова сейчас лопнет. Ты что -- не понимаешь?!..
Туллий ([широко зевая]). Человек, Публий... Чело-
век ([зевает опять]), ну что в человеке особенного...
([Зевает.]) Отвернись.
Публий. Зачем?
Туллий. Снотворное спрятать. И переодеться.
Публий ([отворачивается]). Я бы и так не взял...
Только не долго.
Туллий ([зевая]). Щас... щас... ([прячет таблетки
в клетку с канарейкой]) щас, щас. ([Возвращается в аль-
ков.]) Так, где моя ([зевая]) тога?.. шерстяная кото-
рая...
Публий ([оборачивается]). Лучше белую возьми.
Туллий. Просили же тебя отвернуться. Переодеваюсь
я...
Публий. Я только так... глазами помацать... Зачем
ты эту берешь? Возьми белую.
Туллий ([зевая, почти голый]). Нет, серая лучше...
Больше на Время похоже. Оно же, Публий, ([зевает]) се-
рого цвета... как небо на севере... или там вол-
ны...([Зевает, широко разворачивает тогу.]) Видишь?..
Так Время и выглядит... или ([складывает ее пополам])
так... Или -- так... ([Складывает по-другому]). Серая
тряпочка. ([Заворачивается в тогу и ложится.])
[Пауза.]
Публий. Как же так. Я же не буду знать, сколько
времени прошло. Ведь песочные часы тоже отменили.
Туллий. Не волнуйся. Я сам проснусь. Когда семнад-
цать часов пройдет. ([Зевает.]) Это и будет означать,
что семнадцать часов прошло... когда проснусь...
Публий. Как же так...
[Пауза.]
Туллий. Публий.
Публий. А?
Туллий. Сделай мне одолжение.
Публий. Чего?
Туллий. Пододвинь ко мне поближе Горация.
[Публий передвигает бюст.]
Ага. Спасибо. И О- ([зевает]) -видия.
Публий ([ворочая бюст Овидия]). Так?
Туллий. Ага... чуть поближе...
Публий. Так?
Туллий. Еще ближе...
Публий. Классики... Классик тебе ближе, чем прос-
той человек...
Туллий ([зевая]). Чем кто?
Публий. Чем простой человек...
Туллий. А?.. Человек?.. Человек, Публий... ([Зева-
ет.]) Человек одинок... ([зевает опять]) ...как мысль,
которая забывается.
[Занавес.]
Эссе (переводы с английского)
В отличие от жизни произведение искусства никогда
не принимается как нечто само собой разумеющееся: его
всегда рассматривают на фоне предтеч и предшественни-
ков. Тени великих особенно видны в поэзии, поскольку
слова их не так изменчивы, как те понятия, которые они
выражают.
Поэтому значительная часть труда любого поэта под-
разумевает полемику с этими тенями, горячее или холод-
ное дыхание которых он чувствует затылком или вынужден
чувствовать стараниями литературных критиков. "Класси-
ки" оказывают такое огромное давление, что результатом
временами является вербальный паралич. И поскольку ум
лучше приспособлен к тому, чтобы порождать негативный
взгляд на будущее, чем управляться с такой перспекти-
вой, тенденция состоит в том, чтобы воспринимать ситуа-
цию как финальную. В таких случаях естественное неведе-
ние или даже напускная невинность кажутся благословен-
ными, потому что позволяют отмести всех этих призраков
как несуществующих и "петь" (предпочтительно верлибром)
просто от сознания собственного физического присутствия
на сцене.
Однако рассматривание любой такой ситуации как фи-
нальной обычно обнаруживает не столько отсутствие му-
жества, сколько бедность воображения. Если поэт живет
достаточно долго, он научается справляться с такими за-
тишьями (независимо от их происхождения), используя их
для собственных целей. Непереносимость будущего легче
выдержать, чем непереносимость настоящего, хотя бы
только потому, что человеческое предвидение гораздо бо-
лее разрушительно, чем все, что может принести с собой
будущее.
Эудженио Монтале сейчас восемьдесят один год, и
многое из будущих у него уже позади -- и из своего и
чужого. Только два события в его биографии можно счи-
тать яркими: первое -- его служба офицером пехоты в
итальянской армии в первую мировую войну. Второе -- по-
лучение Нобелевской премии по литературе в 1975 году.
Между этими событиями можно было застать его готовящим-
ся к карьере оперного певца (у него было многообещающее
бельканто), борющимся против фашистского режима -- что
он делал с самого начала и что в конечном счете стоило
ему должности хранителя библиотеки "Кабинет Вьессо" во
Флоренции, -- пишущим статьи, редактирующим журналы, в
течение почти трех десятилетий обозревающим музыкальные
и другие культурные события для "третьей страницы"
"Коррьере делла сера" и в течение шестидесяти лет пишу-
щим стихи. Слава богу, что его жизнь была так небогата
событиями.
Еще со времен романтиков мы приучены к жизнеописа-
ниям поэтов, чьи поразительные творческие биографии бы-
ли порой столь же короткими, сколь незначителен был их
вклад. В этом контексте Монтале -- нечто вроде анахро-
низма, а размер его вклада в поэзию был анахронистичес-
ки велик. Современник Аполлинера, Т. С. Элиота, Ман-
дельштама, он принадлежит этому поколению больше чем
просто хронологически. Все эти авторы вызвали качест-
венные изменения каждый в своей литературе, как и Мон-
тале, чья задача была гораздо труднее.
В то время как англоязычный поэт читает француза
(скажем, Лафорга) чаще всего случайно, итальянец делает
это вследствие географического императива. Альпы, кото-
рые раньше были односторонней дорогой цивилизации на
север, сейчас -- двустороннее шоссе для литературных
"измов" всех видов! Что касается теней, то в этом слу-
чае их толпы (толщи/топы) стесняют работу чрезвычайно.
Чтобы сделать новый шаг, итальянский поэт должен под-
нять груз, накопленный движением прошлого и настоящего,
и именно с грузом настоящего Монтале, возможно, было
легче справиться.
За исключением этой французской близости, ситуация
в итальянской поэзии в первые два десятилетия нашего
века не слишком отличалась от положения других евро-
пейских литератур. Под этим я имею в виду эстетическую
инфляцию, вызванную абсолютным доминированием поэтики
романтизма (будь то натуралистический или символистский
его вариант). Две главные фигуры на итальянской поэти-
ческой сцене того времени -- эти "prepotenti" Габриеле
Д'Аннунцио и Маринетти -- всего лишь объявили об этой
инфляции каждый по-своему. В то время как Д'Аннунцио
довел обесцененную гармонию до ее крайнего (и высшего)
предела, Маринетти и другие футуристы боролись за про-
тивоположное: расчленение этой гармонии. В обоих случа-
ях это была война средств против средств; то есть ус-
ловная реакция, которая знаменовала плененную эстетику
и восприимчивость. Сейчас представляется ясным, что
потребовались три поэта из следующего поколения: Джу-
зеппе Унгаретти, Умберто Саба и Эудженио Монтале, --
чтобы заставить итальянский язык породить современную
лирику.
В духовных одиссеях не бывает Итак, и даже речь --
всего лишь средство передвижения. Метафизический реа-
лист с очевидным пристрастием к чрезвычайно сгущенной
образности, Монтале сумел создать свой собственный поэ-
тический язык через наложение того, что он называл "au-
lico" -- придворным, -- на "прозаический"; язык, кото-
рый также можно было бы определить как amaro stile nuo-
vo (в противоположность Дантовой формуле, царившей в
итальянской поэзии более шести столетий). Самое замеча-
тельное из достижений Монтале, что он сумел вырваться
вперед, несмотря на тиски dolce stile nuovo. В сущнос-
ти, даже не пытаясь ослабить эти тиски, Монтале посто-
янно перефразирует великого флорентийца или обращается
к его образности и словарю. Множественность его аллюзий
отчасти объясняет обвинения в неясности, которые крити-
ки время от времени выдвигают против него. Но ссылки и
парафразы являются естественным элементом любой цивили-
зованной речи (свободная, или "освобожденная" от них
речь -- всего лишь жестикуляция), особенно в итальянс-
кой культурной традиции. Микеланджело и Рафаэль, приво-
дя только эти два примера, оба были жадными интерпрета-
торами "Божественной Комедии". Одна из целей произведе-
ния искусства -- создать должников; парадокс заключает-
ся в том, что, чем в большем долгу художник, тем он бо-
гаче.
Зрелость, которую Монтале обнаружил в своей первой
книге -- "Ossi di seppia", опубликованной в 1925 году,
-- усложняет объяснение его развития. Уже в ней он
ниспровергает вездесущую музыку итальянского одиннадца-
тисложника, выбирая умышленно-монотонную интонацию, ко-
торая порой делается пронзительной благодаря добавлению
стоп или становится приглушенной при их пропуске, --
один из многих приемов, к которым он прибегает, чтобы
избежать инерции просодии. Если вспомнить непосредс-
твенных предшественников Монтале (и самой броской фигу-
рой среди них безусловно является Д'Аннунцио), стано-
вится ясно, что стилистически Монтале не обязан никому
или всем, от кого он отталкивается в своих стихах, ибо
полемика -- одна из форм наследования.
Эта преемственность через отход очевидна в монта-
левском использовании рифмы. Кроме ее функции лингвис-
тического эха, нечто вроде дани языку, рифма сообщает
ощущение неизбежности утверждению поэта. Хотя и полез-
ная, повторяющаяся природа схемы рифм (как, впрочем,
любой схемы) создает опасность преувеличения, не говоря
уже об удалении прошлого от читателя. Чтобы не допус-
тить этого, Монтале часто перемежает рифмованный стих
нерифмованным внутри одного стихотворения. Его протест
против стилистической избыточности безусловно является
как этическим, так и эстетическим, доказывая, что сти-
хотворение есть форма наиболее тесного из возможных
взаимодействий между этикой и эстетикой.
Это взаимодействие, к сожалению, как раз то, что
имеет тенденцию пропадать при переводе. Однако, несмот-
ря на потерю "вертебральной компактности" (по выражению
его наиболее чуткого критика Глауко Кэмбона), Монтале
хорошо переносит перевод. Неизбежно впадая в иную то-
нальность, перевод -- из-за его растолковывающей приро-
ды -- как-то подхватывает оригинал, проясняя то, что
могло бы рассматриваться автором как самоочевидное и,
таким образом, ускользнуть от читающего в подлиннике.
Хотя многое из неуловимой, сдержанной музыки теряется,
американский читатель выигрывает в понимании смысла и
вряд ли повторит по-английски обвинения итальянца в не-
ясности. Говоря о данном сборнике, можно лишь пожалеть,
что сноски не включают указание на схему рифм и метри-
ческий рисунок этих стихотворений. В конечном счете
сноска существует там, где выживает цивилизация.
Возможно, термин "развитие" неприменим к поэту
монталевской чувствительности, хотя бы потому, что он
подразумевает линейный процесс; поэтическое мышление
всегда имеет синтезирующее качество и применяет -- как
сам Монтале выражает это в одном из своих стихотворений
-- что-то вроде техники "радара летучей мыши", то есть
когда мысль охватывает угол в 360 градусов. Также в
каждый момент времени поэт обладает языком во всей его
полноте; отдаваемое им предпочтение архаическим словам,
к примеру, продиктовано материалом его темы или его
нервами, а не заранее выношенной стилистической прог-
раммой. То же справедливо и для синтаксиса, строфики и
т.п. В течение шестидесяти лет Монтале удавалось удер-
живать свою поэзию на стилистическом плато, высота ко-
торого ощущается даже в переводе.
"Новые стихи" -- по-моему, шестая книга Монтале,
выходящая по-английски. Но в отличие от предыдущих из-
даний, которые стремились дать исчерпывающее представ-
ление обо всем творчестве поэта, эта книга включает
только стихи, написанные за последнее десятилетие, сов-
падая, таким образом, с последним (1971) сборником "Са-
тура". И хотя было бы бессмысленно рассматривать эту
книгу как окончательное слово поэта, тем не менее --
из-за возраста автора и объединяющей ее темы смерти же-
ны -- каждое стихотворение до некоторой степени сообща-
ет атмосферу конечности. Ибо смерть как тема всегда по-
рождает автопортрет.
В поэзии, как и в любой другой форме речи, адресат
важен не менее, чем говорящий. Протагонист "Новых сти-
хов" занят попыткой осмыслить расстояние между ним и
"собеседницей" и затем угадать, какой бы ответ "она"
дала, будь "она" здесь. Молчание, в которое его речь по
необходимости была направлена, в смысле ответов косвен-
но подразумевает больше, чем допускает человеческое во-
ображение, -- и это обстоятельство наделяет монталевс-
кую "ее" несомненным превосходством. В этом отношении
Монтале не напоминает ни Т.С.Элиота, ни Томаса Харди, с
которыми его часто сравнивали, но скорее Роберта Фроста
"нью-гэмпширского периода" с его представлением, что
женщина была сотворена из мужского ребра (иносказатель-
ное для сердца) не для того, чтобы быть любимой, не для
того, чтобы любить, не для того, чтобы быть судимой, но
для того, чтобы быть "твоим судьей". Однако, в отличие
от Фроста, Монтале имеет дело с такой формой превос-
ходства, которая есть fait accompli -- превосходство in
absentia, -- и это пробуждает в нем не столько чувство
вины, сколько сознание отъединенности: его личность в
этих стихотворениях была изгнана во "внешнее время".
Поэтому это любовная лирика, в которой смерть иг-
рает приблизительно ту же роль, какую она играет в "Бо-
жественной Комедии" или в сонетах Петрарки мадонне Лау-
ре: роль проводника. Но здесь по знакомым строкам дви-
жется совсем иная личность; его речь не имеет ничего
общего со священным предвкушением. В "Новых стихах"
Монтале демонстрирует такую цепкость воображения, такую
жажду обойти смерть с фланга, которая позволит челове-
ку, обнаружившему по прибытии в царство теней, что
"Килрой был здесь", узнать свой собственный почерк.
Однако в этих стихах нет болезненного очарования
смертью, никакого фальцета; о чем поэт говорит здесь --
так это об отсутствии, которое проявляется в таких же
точно нюансах языка и чувства, которыми когда-то обна-
руживала свое присутствие "она", языка близости. Отсюда
чрезвычайно личный тон стихотворений: в их метрике и
выборе детали. Этот голос говорящего -- часто бормочу-
щего -- про себя вообще является наиболее яркой особен-
ностью поэзии Монтале. Но на сей раз личная нота усили-
вается тем обстоятельством, что лирический герой гово-
рит о вещах, о которых знали только реальный он и ре-
альная она, -- рожки для обуви, чемоданы, названия гос-
тиниц, где они когда-то останавливались, общие знако-
мые, книги, которые они оба читали. Из реалий такого
рода и инерции интимной речи возникает частная мифоло-
гия, которая постепенно приобретает все черты, присущие
любой мифологии, включая сюрреалистические видения, ме-
таморфозы и т.п. В этой мифологии вместо некоего женог-
рудого сфинкса существует образ "ее" минус очки: сюрре-
ализм вычитания, и вычитание это, влияющее либо на те-
му, либо на тональность, есть то, что придает единство
этому сборнику.
Смерть -- всегда песнь "невинности", никогда --
опыта. И с самого начала своего творчества Монтале явно
предпочитает песню исповеди. Хотя и менее ясная, чем
исповедь, песня неповторимей; как утрата. В течение
жизни психологические приобретения становятся неколеби-
мей, чем недвижимость. Нет ничего трогательней отчуж-
денного человека, прибегнувшего к элегии:
Я спустился, дав тебе руку, по крайней мере по
миллиону
лестниц,
и сейчас, когда тебя здесь нет, на каждой ступень-
ке --
пустота.
И все-таки наше долгое странствие было слишком ко-
ротким.
Мое все еще длится, хотя мне уже не нужны
пересадки, брони, ловушки,
раскаяние тех, кто верит,
что реально лишь видимое нами.
Я спустился по миллиону лестниц, дав тебе руку,
не потому, что четыре глаза, может, видят лучше.
Я спустился по ним с тобой, потому что знал, что
из нас двоих
единственные верные зрачки, хотя и затуманенные,
были у тебя.
Помимо прочих соображений, эта отсылка к продолжа-
ющемуся одинокому спуску по лестнице напоминает "Бо-
жественную Комедию". "Xenia I" и "Xenia II", как "Днев-
ник 71-го и 72-го", стихи, составившие данный том, пол-
ны отсылок к Данте. Иногда отсылка состоит из единс-
твенного слова, иногда все стихотворение -- эхо, подоб-
но 9575; 13 из "Xenia I", которое вторит заключению
двадцать первой песни "Чистилища", самой поразительной
сцене во всей кантике. Но что отличает поэтическую и
человеческую мудрость Монтале -- это его довольно мрач-
ная, почти обессиленная, падающая интонация. В конце
концов, он разговаривает с женщиной, с которой провел
много лет: он знает ее достаточно хорошо, чтобы понять,
что она не одобрила бы трагическое тремоло. Конечно, он
знает, что говорит в безмолвие; паузы, которыми переме-
жаются его строки, наводят на мысль о близости этой
пустоты, которая делается до некоторой степени знакомой
-- если не сказать обитаемой -- благодаря его вере, что
"она" может быть где-то там. И именно ощущение ее при-
сутствия удерживает его от обращения к экспрессионист-
ским приемам, изощренной образности, пронзительным ло-
зунгам и т.п. Той, которая умерла, также не понравилась
бы и словесная пышность. Монтале достаточно стар, чтобы
знать, что классически "великая" строчка, как бы ни был
безупречен ее замысел, льстит публике и обслуживает, в
сущности, самое себя, тогда как он превосходно сознает,
кому и куда направлена его речь.
При таком отсутствии искусство делается смиренным.
Несмотря на весь наш церебральный прогресс, мы еще
склонны впадать в романтическое (а следовательно, равно
и реалистическое) представление, что "искусство подра-
жает жизни". Если искусство и делает что-нибудь в этом
роде, то оно пытается отразить те немногие элементы су-
ществования, которые выходят за пределы "жизни", выво-
дят жизнь за ее конечный пункт, -- предприятие, часто
ошибочно принимаемое за нащупывание бессмертия самим
искусством или художником. Другими словами, искусство
"подражает" скорее смерти, чем жизни; то есть оно ими-
тирует ту область, о которой жизнь не дает никакого
представления: сознавая собственную бренность, искусс-
тво пытается одомашнить самый длительный из существую-
щих вариант времени. В конечном счете искусство отлича-
ется от жизни своей способностью достичь той степени
лиризма, которая недостижима ни в каких человеческих
отношениях. Отсюда родство поэзии -- если не собствен-
ное ее изобретение -- с идеей загробной жизни.
Язык "Новых стихов" качественно нов. В значитель-
ной степени это собственный язык Монтале, но часть его
обязана переводу, ограниченные средства которого только
усиливают строгость оригинала. Кумулятивный эффект этой
книги поражает не столько потому, что душа, изображен-
ная в "Новых стихах", никогда не была прежде запечатле-
на в мировой литературе, сколько потому, что книга эта
показывает, что подобная ментальность не могла бы быть
первоначально выражена по-английски. Вопрос "почему"
может только затемнить причину, поскольку даже в родном
для Монтале итальянском языке такое сознание настолько
странно, что он имеет репутацию поэта исключительного.
В конечном счете поэзия сама по себе -- перевод;
или, говоря иначе, поэзия -- одна из сторон души, выра-
женная языком. Поэзия -- не столько форма искусства,
сколько искусство -- форма, к которой часто прибегает
поэзия. В сущности, поэзия -- это артикуляционное выра-
жение восприятия, перевод этого восприятия на язык во
всей его полноте -- язык в конечном счете есть наилуч-
шее из доступных орудий. Но, несмотря на всю ценность
этого орудия в расширении и углублении восприятия --
обнаруживая порой больше, чем первоначально замышля-
лось, что в самых счастливых случаях сливается с восп-
риятием, -- каждый более или менее опытный поэт знает,
как много из-за этого остается невысказанным или иска-
жается.
Это наводит на мысль, что поэзия каким-то образом
также чужда или сопротивляется языку, будь это итальян-
ский, английский или суахили, и что человеческая душа
вследствие ее синтезирующей природы бесконечно превос-
ходит любой язык, которым нам приходится пользоваться
(имея несколько лучшие шансы с флективными языками). По
крайней мере, если бы душа имела свой собственный язык,
расстояние между ним и языком поэзии было бы приблизи-
тельно таким же, как расстояние между языком поэзии и
разговорным итальянским. Язык Монтале сокращает оба
расстояния.
"Новые стихи" нужно читать и перечитывать несколь-
ко раз если не ради анализа, функция которого состоит в
том, чтобы вернуть стихотворение к его стереоскопичес-
ким истокам -- как оно существовало в уме поэта, -- то
ради ускользающей красоты этого тихого, бормочущего и
тем не менее твердого стоического голоса, который гово-
рит нам, что мир кончается не взрывом, не всхлипом, но
человеком говорящим, делающим паузу и говорящим вновь.
Когда вы прожили такую долгую жизнь, спад перестает
быть просто еще одним приемом.
Эта книга, конечно же, монолог; иначе и быть не
могло, когда собеседник отсутствует, как это почти
всегда и бывает в поэзии. Однако отчасти идея монолога
как основного средства происходит из "поэзии отсутс-
твия", другое название для величайшего литературного
движения со времен символизма, движения, возникшего в
Европе, и главным образом в Италии, в двадцатые и трид-
цатые годы, -- герметизма. Следующее стихотворение, ко-
торое открывает данный сборник, является подтверждением
главных постулатов этого движения и собственным его
триумфом:
Ты
Обманутые авторы
критических статей
возводят мое "ты" в подобие института.
Неужто нужно объяснять кому-то,
как много кажущихся отражений
в одном -- реальном -- может воплотиться?
Несчастье в том, что, в плен попав,
не знает птица,
она ли это иль одна из стольких
подобных ей.
Монтале присоединился к движению герметиков в кон-
це тридцатых годов, живя во Флоренции, куда он переехал
в 1927 году из его родной Генуи. Главной фигурой в гер-
метизме в то время был Джузеппе Унгаретти, принявший
эстетику "Un Coup de Des" Малларме, возможно, слишком
близко к сердцу. Однако чтобы полностью понять природу
герметизма, имеет смысл учитывать не только тех, кто
стоял во главе этого движения, но также того, кто зап-
равлял всеми итальянскими зрелищами, -- и это был Дуче.
В значительной степени герметизм был реакцией итальянс-
кой интеллигенции на политическую ситуацию в Италии в
30-е и 40-е годы нашего столетия и мог рассматриваться
как акт культурной самозащиты -- от фашизма. По крайней
мере, не учитывать эту сторону герметизма было бы таким
же упрощением, как и обычное выпячивание ее сегодня.
Хотя итальянский режим был гораздо менее кровожад-
ным по отношению к искусству, чем его русский и немец-
кий аналоги, чувство его несовместимости с традициями
итальянской культуры было гораздо более очевидным и не-
переносимым, чем в этих странах. Это почти правило: для
того чтобы выжить под тоталитарным давлением, искусство
должно выработать плотность, прямо пропорциональную ве-
личине этого давления. История итальянской культуры
предоставила часть требуемой субстанции; остальная ра-
бота выпала на долю герметиков, хотя само название мало
это подразумевало. Что могло быть отвратительнее для
тех, кто подчеркивал литературный аскетизм, сжатость
языка, установку на слово и его аллитерационные возмож-
ности, на звук, а не значение и т.п., чем пропагандист-
ское многословие или спонсированные государством версии
футуризма?
Монтале имеет репутацию наиболее трудного поэта
этой школы, и он, конечно, более трудный в том смысле,
что он сложнее, чем Унгаретти или Сальваторе Квазимодо.
Но несмотря на все обертоны, недоговоренности, смешение
ассоциаций или намеков на ассоциации в его произведени-
ях, их скрытые ссылки, смену микроскопических деталей
общими утверждениями, эллиптическую речь и т.д., именно
он написал "La primavera Hitleriana" ("Гитлеровская
весна"), которая начинается:
Густое белое облако бешеных бабочек
окружает тусклые фонари, вьется над парапетами,
кроет саваном землю, и этот саван, как сахар,
скрипит под ногами...
Этот образ ноги, скрипящей по мертвым бабочкам,
как по рассыпанному сахару, сообщает такую равнодушную,
невозмутимую неуютность и ужас, что, когда примерно че-
рез четырнадцать строк он говорит:
...а вода размывать продолжает
берега, и больше нет невиновных, --
это звучит как лирика. Немногое в этих строчках напоми-
нает герметизм -- этот аскетический вариант символизма.
Действительность требовала более основательного откли-
ка, и вторая мировая война принесла с собой дегермети-
зацию. Однако ярлык герметика приклеился к Монтале, и с
тех пор он считается "неясным" поэтом. Всякий раз, ког-
да слышишь о неясности, -- время остановиться и пораз-
мышлять о нашем представлении о ясности, ибо обычно оно
основано на том, что уже известно и предпочтительно
или, на худой конец, припоминаемо. В этом смысле, чем
темнее, тем лучше. И в этом же смысле неясная поэзия
Монтале все еще выполняет функцию защиты культуры, на
сей раз от гораздо более вездесущего врага:
Сегодняшний человек унаследовал нервную систему,
которая не может противостоять современным условиям
жизни. Ожидая, когда родится завтрашний человек, чело-
век сегодняшний реагирует на изменившиеся условия не
тем, что он встает с ними вровень, и не попытками про-
тивостоять их ударам, но превращением в массу.