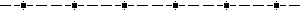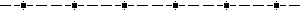
Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова I Взбаламутивший море ветер рвется как ругань с расквашенных губ в глубь холодной державы, заурядное до-ре- ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб. Не-царевны-не-жабы припадают к земле, и сверкает звезды оловянная гривна. И подобье лица растекается в черном стекле, как пощечина ливня. II Здравствуй, Томас. То -- мой призрак, бросивший тело в гостинице где-то за морями, гребя против северных туч, поспешает домой, вырываясь из Нового Света, и тревожит тебя. III Поздний вечер в Литве. Из костелов бредут, хороня запятые свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах куры роются клювами в жухлой дресве. Над жнивьем Жемайтии вьется снег, как небесных обителей прах. Из раскрытых дверей пахнет рыбой. Малец полуголый и старуха в платке загоняют корову в сарай. Запоздалый еврей по брусчатке местечка гремит балаголой, вожжи рвет и кричит залихватски: "Герай!" IV Извини за вторженье. Сочти появление за возвращенье цитаты в ряды "Манифеста": чуть картавей, чуть выше октавой от странствий в дали. Потому -- не крестись, не ломай в кулаке картуза: сгину прежде, чем грянет с насеста петушиное "пли". Извини, что без спросу. Не пяться от страха в чулан: то, кордонов за счет, расширяет свой радиус бренность. Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым, над Балтийской волной я жужжу, точно тот моноплан -- точно Дариус и Геренас, но не так уязвим. V Поздний вечер в Империи, в нищей провинции. Вброд перешедшее Неман еловое войско, ощетинившись пиками, Ковно в потемки берет. Багровеет известка трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как пойманный лещ. Вверх взвивается занавес в местном театре. И выносят на улицу главную вещь, разделенную на три без остатка. Сквозняк теребит бахрому занавески из тюля. Звезда в захолустье светит ярче: как карта, упавшая в масть. И впадает во тьму, по стеклу барабаня, руки твоей устье. Больше некуда впасть. VI В полночь всякая речь обретает ухватки слепца. Так что даже "отчизна" наощупь -- как Леди Годива. В паутине углов микрофоны спецслужбы в квартире певца пишут скрежет матраца и всплески мотива общей песни без слов. Здесь панует стыдливость. Листва, норовя выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой, возмущает фонарь. Отменив рупора, миру здесь о себе возвещают, на муравья наступив ненароком, невнятной морзянкой пульса, скрипом пера. VII Вот откуда твои щек мучнистость, безадресность глаза, шепелявость и волосы цвета спитой, тусклой чайной струи. Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза, на пути к запятой. Вот откуда моей, как ее продолжение вверх, оболочки в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы ивняка и т.п., очертанья морей, их страниц перевернутость в поисках точки, горизонта, судьбы. VIII Наша письменность, Томас! с моим, за поля выходящим сказуемым! с хмурым твоим домоседством подлежащего! Прочный, чернильный союз, кружева, вензеля, помесь литеры римской с кириллицей: цели со средством, как велел Макроус! Наши оттиски! в смятых сырых простынях -- этих рыхлых извилинах общего мозга! -- в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас. Либо -- просто синяк на скуле мирозданья от взгляда подростка, от попытки на глаз расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы до лица, многооко смотрящего мимо, как раскосый монгол за земной частокол, чтоб вложить пальцы в рот -- в эту рану Фомы -- и, нащупав язык, на манер серафима переправить глагол. IX Мы похожи; мы, в сущности, Томас, одно: ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи. Друг для друга мы суть обоюдное дно амальгамовой лужи, неспособной блеснуть. Покривись -- я отвечу ухмылкой кривой, отзовусь на зевок немотой, раздирающей полость, разольюсь в три ручья от стоваттной слезы над твоей головой. Мы -- взаимный конвой, проступающий в Касторе Поллукс, в просторечье -- ничья, пат, подвижная тень, приводимая в действие жаркой лучиной, эхо возгласа, сдача с рубля. Чем сильней жизнь испорчена, тем мы в ней неразличимей ока праздного дня. X Чем питается призрак? Отбросами сна, отрубями границ, шелухою цифири: явь всегда наровит сохранить адреса. Переулок сдвигает фасады, как зубы десна, желтизну подворотни, как сыр простофили, пожирает лиса темноты. Место, времени мстя за свое постоянство жильцом, постояльцем, жизнью в нем, отпирает засов, -- и, эпоху спустя, я тебя застаю в замусоленной пальцем сверхдержаве лесов и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты и особенно позу: в сырой конопляной многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди Мать-Литва засыпает над плесом, и ты припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной, поллитровой груди. XI Существуют места, где ничто не меняется. Это -- заменители памяти, кислый триумф фиксажа. Там шлагбаум на резкость наводит верста Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта. Там с лица сторожа моложавей. Минувшее смотрит вперед настороженным глазом подростка в шинели, и судьба нарушителем пятится прочь в настоящую старость с плевком на стене, с ломотой, с бесконечностью в форме панели либо лестницы. Ночь и взаправду граница, где, как татарва, территориям прожитой жизни набегом угрожает действительность, и наоборот, где дрова переходят в деревья и снова в дрова, где что веко не спрячет, то явь печенегом как трофей подберет. XII Полночь. Сойка кричит человеческим голосом и обвиняет природу в преступленьях термометра против нуля. Витовт, бросивший меч и похеривший щит, погружается в Балтику в поисках броду к шведам. Впрочем, земля и сама завершается молом, погнавшимся за как по плоским ступенькам, по волнам убежавшей свободой. Усилья бобра по постройке запруды венчает слеза, расставаясь с проворным ручейком серебра. XIII Полночь в лиственном крае, в губернии цвета пальто. Колокольная клинопись. Облако в виде отреза на рядно сопредельной державе. Внизу пашни, скирды, плато черепицы, кирпич, колоннада, железо, плюс обутый в кирзу человек государства. Ночной кислород наводняют помехи, молитва, сообщенья о погоде, известия, храбрый Кощей с округленными цифрами, гимны, фокстрот, болеро, запрещенья безымянных вещей. XIV Призрак бродит по Каунасу, входит в собор, выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее. Входит в "Тюльпе", садится к столу. Кельнер, глядя в упор, видит только салфетки, огни бакалеи, снег, такси на углу, просто улицу. Бьюсь об заклад, ты готов позавидовать. Ибо незримость входит в моду с годами -- как тела уступка душе, как намек на грядущее, как маскхалат Рая, как затянувшийся минус. Ибо все в барыше от отсутствия, от бестелесности: горы и долы, медный маятник, сильно привыкший к часам, Бог, смотрящий на все это дело с высот, зеркала, коридоры, соглядатай, ты сам. XV Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он суть твое прибавление к воздуху мысли обо мне, суть пространство в квадрате, а не энергичная проповедь лучших времен. Не завидуй. Причисли привиденье к родне, к свойствам воздуха -- так же, как мелкий петит, рассыпаемый в сумраке речью картавой, вроде цокота мух, неспособный, поди, утолить аппетит новой Клио, одетой заставой, но ласкающий слух обнаженной Урании. Только она, Муза точки в пространстве и Муза утраты очертаний, как скаред -- гроши, в состояньи сполна оценить постоянство: как форму расплаты за движенье -- души. XVI Вот откуда пера, Томас, к буквам привязанность. Вот чем объясняться должно тяготенье, не так ли? Скрепя сердце, с хриплым "пора!" отрывая себя от родных заболоченных вотчин, что скрывать -- от тебя! от страницы, от букв, от -- сказать ли! -- любви звука к смыслу, бесплотности -- к массе и свободы к -- прости и лица не криви -- к рабству, данному в мясе, во плоти, на кости, эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей мимо дремлющих в нише местных ангелов: выше их и нетопырей. XVII Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых лишь в телескоп! Вычитанья без остатка! Нуля! Ты, кто горлу велишь избегать причитанья превышения "ля" и советуешь сдержанность! Муза, прими эту арию следствия, петую в ухо причине, то есть песнь двойнику, и взгляни на нее и ее до-ре-ми там, в разреженном чине, у себя наверху с точки зрения воздуха. Воздух и есть эпилог для сетчатки -- поскольку он необитаем. Он суть наше "домой", восвояси вернувшийся слог. Сколько жаброй его ни хватаем, он успешно латаем светом взапуски с тьмой. XVIII У всего есть предел: горизонт -- у зрачка, у отчаянья -- память, для роста -- расширение плеч. Только звук отделяться способен от тел, вроде призрака, Томас. Сиротство звука, Томас, есть речь! Оттолкнув абажур, глядя прямо перед собою, видишь воздух: анфас сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас. XIX В царстве воздуха! В равенстве слога глотку кислорода. В прозрачных и сбившихся в облак наших выдохах. В том мире, где, точно сны к потолку, к небу льнут наши "о!", где звезда обретает свой облик, продиктованный ртом. Вот чем дышит вселенная. Вот что петух кукарекал, упреждая гортани великую сушь! Воздух -- вещь языка. Небосвод -- хор согласных и гласных молекул, в просторечии -- душ. XX Оттого-то он чист. Нет на свете вещей, безупречней (кроме смерти самой) отбеляющих лист. Чем белее, тем бесчеловечней. Муза, можно домой? Восвояси! В тот край, где бездумный Борей попирает беспечно трофеи уст. В грамматику без препинания. В рай алфавита, трахеи. В твой безликий ликбез. XXI Над холмами Литвы что-то вроде мольбы за весь мир раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый звук плывет над селеньями в сторону Куршской Косы. То Святой Казимир с Чудотворным Николой коротают часы в ожидании зимней зари. За пределами веры, из своей стратосферы, Муза, с ними призри на певца тех равнин, в рукотворную тьму погруженных по кровлю, на певца усмиренных пейзажей. Обнеси своей стражей дом и сердце ему. 1974 На смерть друга Имяреку, тебе, -- потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть, -- от меня, анонима, как по тем же делам: потому что и с камня сотрут, так и в силу того, что я сверху и, камня помимо, чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса -- на эзоповой фене в отечестве белых головок, где наощупь и слух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок; имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучшей из од на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой, слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей, белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бессчетных постелей -- да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо, вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно. 1973 Война в убежище Киприды Смерть поступает в виде пули из магнолиевых зарослей, попарно. Взрыв выглядит как временная пальма, которую раскачивает бриз. Пустая вилла. Треснувший фронтон со сценами античной рукопашной. Пылает в море новый Фаэтон, с гораздо меньшим грохотом упавший. И в позах для рекламного плаката на гальке, раскаленной добела, маячат неподвижные тела, оставшись загорать после заката. 21 июля 1974 "Барбизон Террас" Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне. Постояльцы храпят, не снимая на ночь черных очков, чтоб не видеть снов. Портье с плечами тяжелоатлета листает книгу жильцов, любуясь внутренностями Троянского подержанного коня. Шелест кизилового куста оглушает сидящего на веранде человека в коричневом. Кровь в висках стучит, как не принятое никем и вернувшееся восвояси морзе. Небо похоже на столпотворение генералов. Если когда-нибудь позабудешь сумму углов треугольника или площадь в заколдованном круге, вернись сюда: амальгама зеркала в ванной прячет сильно сдобренный милой кириллицей волапюк и совершенно секретную мысль о смерти. 1974 20 сонетов к Марии Стюарт I Мари, шотландцы все-таки скоты. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя, сады? И Люксембургский, в частности? Сюды забрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды. Где встретил Вас. И в силу этой встречи, и так как "все былое ожило в отжившем сердце", в старое жерло вложив заряд классической картечи, я трачу, что осталось в русской речи на Ваш анфас и матовые плечи. II В конце большой войны не на живот, когда что было, жарили без сала, Мари, я видел мальчиком, как Сара Леандр шла топ-топ на эшафот. Меч палача, как ты бы не сказала, приравнивает к полу небосвод (см. светило, вставшее из вод). Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в "Спартак", в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная -- брюнет, там две картины, очередь на обе. И лишнего билета нет. III Земной свой путь пройдя до середины, я, заявившись в Люксембургский сад, смотрю на затвердевшие седины мыслителей, письменников; и взад- вперед гуляют дамы, господины, жандарм синеет в зелени, усат, фонтан мурлычит, дети голосят, и обратиться не к кому с "иди на". И ты, Мари, не покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг -- французских королев во время оно -- безмолвно, с воробьем на голове. Сад выглядит, как помесь Пантеона со знаменитой "Завтрак на траве". IV Красавица, которую я позже любил сильней, чем Босуэла -- ты, с тобой имела общие черты (шепчу автоматически "о, Боже", их вспоминая) внешние. Мы тоже счастливой не составили четы. Она ушла куда-то в макинтоше. Во избежанье роковой черты, я пересек другую -- горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа. Над этой вещью голову держа, не кислорода ради, но азота, бурлящего в раздувшемся зобу, гортань... того... благодарит судьбу. V Число твоих любовников, Мари, превысило собою цифру три, четыре, десять, двадцать, двадцать пять. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. (Вот почему обречена корона; республика же может устоять, как некая античная колонна). И с этой точки зренья ни на пядь не сдвинете шотландского барона. Твоим шотландцам было не понять, чем койка отличается от трона. В своем столетьи белая ворона, для современников была ты блядь. VI Я вас любил. Любовь еще (возможно, что просто боль) сверлит мои мозги, Все разлетелось к черту, на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. И далее, виски: в который вдарить? Портила не дрожь, но задумчивость. Черт! все не по-людски! Я Вас любил так сильно, безнадежно, как дай Вам бог другими ---- -- но не даст! Он, будучи на многое горазд, не сотворит -- по Пармениду -- дважды сей жар в груди, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды коснуться -- "бюст" зачеркиваю -- уст! VII Париж не изменился. Плас де Вож по-прежнему, скажу тебе, квадратна. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож. Из нового -- концерты за бесплатно и башня, чтоб почувствовать -- ты вошь. Есть многие, с кем свидеться приятно, но первым прокричавши "как живешь?" В Париже, ночью, в ресторане... Шик подобной фразы -- праздник носоглотки. И входит айне кляйне нахт мужик, внося мордоворот в косовортке. Кафе. Бульвар. Подруга на плече. Луна, что твой генсек в параличе. VIII На склоне лет, в стране за океаном (открытой, как я думаю, при Вас), деля помятый свой иконостас меж печкой и продавленным диваном, я думаю, сведи удача нас, понадобились вряд ли бы слова нам: ты просто бы звала меня Иваном, и я бы отвечал тебе "Alas". Шотландия нам стлала бы матрас. Я б гордым показал тебя славянам. В порт Глазго, караван за караваном, пошли бы лапти, пряники, атлас. Мы встретили бы вместе смертный час. Топор бы оказался деревянным. IX Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг сражения. "Ты кто такой?" -- "А сам ты?" "Я кто такой?" -- "Да, ты". -- "Мы протестанты". "А мы -- католики". -- "Ах, вот как!" Хряск! Потом везде валяются останки. Шум нескончаемых вороньих дрязг. Потом -- зима, узорчатые санки, примерка шали: "Где это -- Дамаск?" "Там, где самец-павлин прекрасней самки". "Но даже там он не проходит в дамки" (за шашками -- передохнув от ласк). Ночь в небольшом по-голливудски замке. Опять равнина. Полночь. Входят двое. И все сливается в их волчьем вое. X Осенний вечер. Якобы с Каменой. Увы, не поднимающей чела. Не в первый раз. В такие вечера всё в радость, даже хор краснознаменный. Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочара из Гамбурга. К подержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском, молью траченом жакете. XI Лязг ножниц, ощущение озноба. Рок, жадный до каракуля с овцы, что брачные, что царские венцы снимает с нас. И головы особо. Прощай, юнцы, их гордые отцы, разводы, клятвы верности до гроба. Мозг чувствует, как башня небоскреба, в которой не общаются жильцы. Так пьянствуют в Сиаме близнецы, где пьет один, забуревают -- оба. Никто не прокричал тебе "Атас!" И ты не знала "я одна, а вас...", глуша латынью потолок и Бога, увы, Мари, как выговорить "много". XII Что делает Историю? -- Тела. Искусство? -- Обезглавленное тело. Взять Шиллера: Истории влетело от Шиллера. Мари, ты не ждала, что немец, закусивши удила, поднимет старое, по сути, дело: ему-то вообще какое дело, кому дала ты или не дала? Но, может, как любая немчура, наш Фридрих сам страшился топора. А во-вторых, скажу тебе, на свете ничем (вообрази это), опричь Искусства, твои стати не постичь. Историю отдай Елизавете. XIII Баран трясет кудряшками (они же -- руно), вдыхая запахи травы. Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже. В тот день их речи были таковы: "Ей отрубили голову. Увы". "Представьте, как рассердятся в Париже". "Французы? Из-за чьей-то головы? Вот если бы ей тяпнули пониже..." "Так не мужик ведь. Вышла в неглиже". "Ну, это, как хотите, не основа..." "Бесстыдство! Как просвечивала жэ!" "Что ж, платья, может, не было иного". "Да, русским лучше; взять хоть Иванова: звучит как баба в каждом падеже". XIV Любовь сильней разлуки, но разлука длинней любви. Чем статнее гранит, тем явственней отсутствие ланит и прочего. Плюс запаха и звука. Пусть ног тебе не вскидывать в зенит: на то и камень (это ли не мука?), но то, что страсть, как Шива шестирука, бессильна -- юбку, он не извинит. Не от того, что столько утекло воды и крови (если б голубая!), но от тоски расстегиваться врозь воздвиг бы я не камень, но стекло, Мари, как воплощение гудбая и взгляда, проникающего сквозь. XV Не то тебя, скажу тебе, сгубило, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила; не "ты" и "вы", смешавшиеся в "ю"; не чьи-то симпатичные чернила; не то, что -- за печатями семью -- Елизавета Англию любила сильней, чем ты Шотландию свою (замечу в скобках, так оно и было); не песня та, что пела соловью испанскому ты в камере уныло. Они тебе заделали свинью за то, чему не видели конца в те времена: за красоту лица. XVI Тьма скрадывает, сказано, углы. Квадрат, возможно, делается шаром, и, на ночь глядя залитым пожаром, багровый лес незримому курлы беззвучно внемлет порами коры; лай сеттера, встревоженного шалым сухим листом, возносится к стожарам, смотрящим на озимые бугры. Немногое, чем блазнилась слеза, сумело уцелеть от перехода в сень перегноя. Вечному перу из всех вещей, бросавшихся в глаза, осталось следовать за временами года, петь на голос "Унылую Пору". XVII То, что исторгло изумленный крик из аглицкого рта, что к мату склоняет падкий на помаду мой собственный, что отвернуть на миг Филиппа от портрета лик заставило и снарядить Армаду, то было ---- -- не могу тираду закончить ---- -- в общем, твой парик, упавший с головы упавшей (дурная бесконечность), он, твой суть единственный поклон, пускай не вызвал рукопашной меж зрителей, но был таков, что поднял на ноги врагов. XVIII Для рта, проговорившего "прощай" тебе, а не кому-нибудь, не всё ли одно, какое хлебово без соли разжевывать впоследствии. Ты, чай, привычная к не-доремифасоли. А если что не так -- не осерчай: язык, что крыса, копошится в соре, выискивает что-то невзначай. Прости меня, прелестный истукан. Да, у разлуки все-таки не дура губа (хоть часто кажется -- дыра): меж нами -- вечность, также -- океан. Причем, буквально. Русская цензура. Могли бы обойтись без топора. XIX Мари, теперь в Шотландии есть шерсть (все выглядит как новое из чистки). Жизнь бег свой останавливает в шесть, на солнечном не сказываясь диске. В озерах -- и по-прежнему им несть числа -- явились монстры (василиски). И скоро будет собственная нефть, шотландская, в бутылках из-под виски. Шотландия, как видишь, обошлась. И Англия, мне думается, тоже. И ты в саду французском непохожа на ту, с ума сводившую вчерась. И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их, но непохожие на вас обеих. XX Пером простым -- неправда, что мятежным! я пел про встречу в некоем саду с той, кто меня в сорок восьмом году с экрана обучала чувствам нежным. Предоставляю вашему суду: a) был ли он учеником прилежным, b) новую для русского среду, c) слабость к окончаниям падежным. В Непале есть столица Катманду. Случайное, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду. Ведя ту жизнь, которую веду, я благодарен бывшим белоснежным листам бумаги, свернутым в дуду. 1974 Над восточной рекой Боясь расплескать, проношу головную боль в сером свете зимнего полдня вдоль оловянной реки, уносящей грязь к океану, разделившему нас с тем размахом, который глаз убеждает в мелочных свойствах масс. Как заметил гном великану. В на попа поставленном царстве, где мощь крупиц выражается дробью подметок и взглядом ниц, испытующим прочность гравия в Новом Свете, все, что помнит твердое тело pro vita sua -- чужого бедра тепло да сухой букет на буфете. Автостадо гремит; и глотает свой кислород, схожий с локтем на вкус, углекислый рот; свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке. Голова болит, голова болит. Ветер волосы шевелит на больной голове моей в буром парке. 1974 На смерть Жукова Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труб. Вижу в регалиях убранный труп: в смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале напоминавший средь волжских степей. Кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую! Что ж, горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати? Полный провал. Что он ответит, встретившись в адской области с ними? "Я воевал". К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи! У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал! поглотит алчная Лета эти слова и твои прахоря. Все же, прими их -- жалкая лепта родину спасшему, вслух говоря. Бей, барабан, и, военная флейта, громко свисти на манер снегиря. 1974 x x x Песчаные холмы, поросшие сосной. Здесь сыро осенью и пасмурно весной. Здесь море треплет на ветру оборки свои бесцветные, да из соседских дач порой послышится то детский плач, то взвизгнет Лемешев из-под плохой иголки. Полынь на отмели и тростника гнилье. К штакетнику выходит снять белье мать-одиночка. Слышен скрип уключин: то пасынок природы, хмурый финн, плывет извлечь свой невод из глубин, но невод этот пуст и перекручен. Тут чайка снизится, там промелькнет баклан. То алюминивый аэроплан, уместный более средь облаков, чем птица, стремится к северу, где бьет баклуши швед, как губка некая, вбирая серый цвет, и пресным воздухом не тяготится. Здесь горизонту придают черты своей доступности безлюдные форты. Здесь блеклый парус одинокой яхты, чертя прозрачную вдали лазурь, вам не покажется питомцем бурь, но -- заболоченного устья Лахты. И глаз, привыкший к уменьшенью тел на расстоянии, иной предел здесь обретает -- где вообще о теле речь не заходит, где утрат не жаль: затем что большую предполагает даль потеря из виду, чем вид потери. Когда умру, пускай меня сюда перенесут. Я никому вреда не причиню, в песке прибрежном лежа. Объятий ласковых, тугих клешней равно бежавшему не отыскать нежней, застираннее и безгрешней ложа. 1974