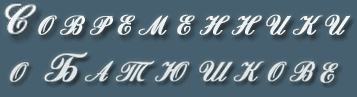Титульный
лист |
А. Западов
У нас есть и еще один образец постраничных замечаний Пушкина, прямых, метких и доброжелательных. Он всегда высоко ценил творчество Батюшкова и числил этого поэта одним из своих литературных учителей. Однако, восхищаясь гармонической точностью и музыкальностью стихов Батюшкова, Пушкин не закрывал глаза и на их недостатки. Экземпляр принадлежавшего ему сборника произведений Батюшкова испещрен заметками, знакомство с которыми представляет огромный интерес для работников литературного труда. «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова были изданы в двух частях в октябре 1817 года. Пометы Пушкина сделаны на экземпляре второй части, содержащей стихи поэта. Их впервые опубликовал и прокомментировал Л. Н. Майков, составитель и редактор собрания сочинений Батюшкова, вышедшего тремя томами в 1885 – 1887 годах. |
| Датировал он замечания Пушкина 1826 – 1828 годами, приведя, как он считал, достаточные для того основания. Советский исследователь В. Л. Комарович оспорил такую точку зрения[1]
[1 В. Л. Комарович. Пометки Пушкина в «Опытах» Батюшкова. «Литературное наследство», т. 16 – 18. М., 1934, стр. 885 – 904]. Он установил, что вторая часть «Опытов» появилась у Пушкина в год ее выхода из печати и что некоторые его заметки сделаны при первом знакомстве с книгой, то есть в 1817 году. Ранних заметок пять, относятся они к стихам «Странствователь и домосед», «Умирающий Тасс», «Беседка муз» и «Переход через Рейн» (две). В целом же разбор стихотворений Батюшкова Пушкин произвел осенью 1830 года в Болдине.
Мнение В. Л. Комаровича было признано в советской науке справедливым. Так, исследователь творчества Батюшкова Н. В. Фридман писал: «Хотя некоторые положения В. Л. Комаровича кажутся спорными, все же главный его тезис о разновременности пушкинских заметок представляется доказанным с полной убедительностью»[1] [1 Н. В. Фридман. Поэзия Батюшкова. М., «Наука», 1971, стр. 321]. Следовательно, рассматривая оценки «Опытов», произведенные Пушкиным, надобно помнить, что принадлежат они вполне сложившемуся писателю-реалисту, читающему стихи романтика. Судит он с этой новой точки зрения, умудренный своими художественными открытиями, судит подчас резко, но в целом благожелательно и с полным пониманием роли и значения Батюшкова для отечественной литературы и для развития русского стихотворного языка. «.. .У классиков, – писал Г. А. Гуковский, – слово было сухо, однозначно, семантически плоскостно, функционировало, как в грамматике и лексиконе... Державин открыл новые возможности слова, открыл пути романтизму, как и будущему реализму. Он создал слово, выходящее за пределы лексикона своим живым значением. Его слова указывали как бы перстом на вещи реального мира... Но слово и у него ограничено. Оно показывает предмет и останавливается на этом. Жуковский и его школа придали слову множество дополнительных звучаний и психологических красок. У них слово стало не только значить, но и выражать. Оно стало веселым или сумрачным, грозным или легким, теплым или холодным... У зрелого Пушкина слово – это прежде всего предметное, объективное явление; но оно в то же время сохраняет ореол осмыслений и оттенков, созданных романтиками»[2]
[2 Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики, стр. 104 –
106.]. Свыше тридцати помет выражают недовольство Пушкина отдельными стихами, строками и словами. Он пишет: «слабо», «вяло», «дурно», «пошло», «какая дрянь!», «черт знает, что такое!», «что за детские стихи!» и т. п. Кроме того, десятки строк и строф Пушкин подчеркнул, перечеркнул, взял в скобки, чем определил свое к ним отношение. Например, у Батюшкова есть строки: Так ландыш под серпом убийственным жнеца Пушкин поправил автора: Рассказывая об этой записи Пушкина, Г. А. Гуковский поясняет: «Конечно, это так с точки зрения пушкинского миропонимания и стиля конца 20-х годов, уже реалистического. Но с точки зрения стиля Батюшкова, как и стиля Жуковского, это не так, потому что здесь и ландыш – не просто цветок, и серп – не сельскохозяйственное орудие, а ландыш – символ молодой, нежной, «весенней» жизни и поэзии, и еще многое другое, чисто эмоциональное, и серп – символ жатвы смерти, неумолимой силы гибели; недаром он – «убийственный», то есть опять эпитет определяет тональность предметного слова как не-предметного. Ведь обыкновенный серп, которым жнут, как и серп – символ труда, – никак не убийственный»[1] [1 Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики, стр. 100]. Несообразность заметил Пушкин в стихотворении Батюшкова «Мои пенаты»: там были, кроме пенат, – как назывались в древнем Риме боги – покровители домашнего очага, – упомянуты норы, кельи, двуструнная балалайка, на которой играет солдат, и проч. Пушкин по этому поводу заметил: «Главный порок в сем прелестном послании есть слишком явное смешение древних обычаев миф(ологии) с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но норы и
кельи, где лары расставлены, слишком переносят нас в греч(ескую) хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином
- суворовского солдата с двуструнной балалайкой. – Это все друг другу слишком уже противоречит». Когда же Парки тощи Пушкин вертикальной чертой отметил последние пять строк и рядом написал: Другими словами, не следует соединять действия мифологических существ древней Греции с исполнением обрядов православной церкви или с игрой солдата на балалайке – всюду нужны соразмерность и сообразность. В целом «Мои пенаты» вызывали восхищение Пушкина. Внизу страницы он приписал: Как находит Г. А. Гуковский, «Пушкин около 1830 года незакономерно, с точки зрения системы Батюшкова, порицал в его стихах соединение античных слов-образов с русскими, потому что у Батюшкова и те и другие не имеют задачей воссоздание объективной реальности античной или русской жизни, а имеют назначение только вызывать эмоцию, а для этого все средства хороши, и все – одинаково условны. Так ведь и фалерн в превосходной строфе стихотворения «К другу» – не столько вино, сколько обозначение, ассоциативно вызывающее представление об эпикурейском идеале, о комплексе горацианских мотивов и т. д. Но где минутный шум веселья и пиров? Образно – объективно, вещественно – реализовать эти слова нельзя, – получится немыслимая безвкусица. Неужто же вторая строка может быть понята в том смысле, что люди напились и уронили бокалы в вазу для пунша или т. п.?» Стихотворение Батюшкова «К другу» посвящено П. А. Вяземскому, и в нем говорится о пирушках в его московском доме до Отечественной войны 1812 года. Но говорится в романтическом стиле, и предметы, названные поэтом, играют роль символов. Так, «чаши» означают не сосуды для питья, но вакхические упоения. «И неужто, – продолжает Г. А. Гуковский, – противопоставление: твой Фалерн, и розы наши, значит именно твой и наши в смысле реальной принадлежности вина и цветов (вино, мол, твое, а цветы наши?). Нет, розы – опять комплекс мироощущения; ты вносил в нашу жизнь праздник, античное упоение, а мы – цветенье молодости, любви, красочность и свежесть, – вот сухая формулировка того, о чем говорится в этом стихе. А что значит «сияющих умов»? Рационалистически понимая – ничего не значит, а в контексте и в системе Батюшкова – это целый мир, скажем, культуры Кондильяка и Гельвеция»[1]
[1 Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики, стр. 100 – 101]. «Сделай начало короче, короче как можно», – советовал он П. А. Вяземскому[1] [1 К. Н. Батюшков. Сочинения, т. III. СПб, 1887, стр. 311]. «Главные достоинства стихотворного слога суть движение, сила, ясность», – утверждал Батюшков[2] [2 Там же, т. II, стр. 151]. И все же Пушкин полагал, что некоторым строкам стихов Батюшкова не хватает ясности и что встречаются такие строки, без которых вполне можно бы обойтись. В стихотворении «Мщение» читаем: Но все любовью здесь исполнено моей, Пушкин подчеркнул две последние строки и пометил на поле: «Лишнее и вялое». Клятвы врезались в память, зачем добавлять, что лес и ручей также помнят их? Не нужно. В стихотворении «Странствователь и домосед», состоящем из 379 строк, Пушкин перечеркивает и замыкает в скобки с пометкой: «Лишнее» 88 строк, в которых излагаются подробности путешествий «странствователя», а также сообщалось о личных переживаниях автора, когда он возвратился с войны в Петербург. В стихотворении «Счастливец. Подражание Касти» из 13 строф Пушкин оставляет только две последних, остальные зачеркивает. И т. д. Ряд стихотворных строк в «Опытах» Пушкин считает недостаточно энергичными и подчеркивает их в тексте, вынося на поле пометку: «Вяло». Например, в стихотворении «На развалинах замка в Швеции» так он аттестует 7-ю строфу: Ах, юноша! спеши к отеческим брегам, Такое же замечание получили два стиха «Элегии из Тибулла»: О вы, которые умеете любить, Пометка «Вяло» стоит против стихов из послания И. М. Муравьеву-Апостолу: Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы, Фраза в самом деле громоздкая, длинная, с оборотами, требующими от читателя догадливости. «Расторгнув светски узы» – то есть освободившись от обязанностей, налагаемых общественным положением, найти время для писания стихов; «певец Сибирского Пизарро» – то есть сам Дмитриев, сочинивший балладу «Ермак», ее героя Батюшков уравнивает с испанским завоевателем. Наконец, канцелярский вид имеет фраза: «струи царицы светлых вод, на коих... зрел» и т. д. «Коих», «которых» Пушкин, очевидно, в стихах не любил. Батюшков пишет в «Тибулловой элегии X»: О подвигах своих расскажет древний воин, Эпитет «веселые» в этом отрывке относится не к самим чашам, а к атмосфере дружеской встречи. Поэт просит богов сохранить в битвах ему жизнь и более того – утвердить мир на земле, чтобы «кровавый Марс» бежал «от наших алтарей». Батюшкову не нужно было конкретно описывать пиршество, в ходе которого вспоминались былые походы. Пушкин пожелал воссоздать обстановку – воин чертит схему лагеря, обмакивая, наверное, палец в пролитое на стол вино, – и потому напомнил о первой публикации стихотворения: «Было прежде: чаш пролитых вином – точнее». Ранее Батюшков напечатал элегию в журнале «Вестник Европы» (1810, ч. 50, № 8), а готовя к изданию свои «Опыты», внес в текст несколько поправок. Так, в строке 3-й «Невинный мир» он заменил на «Мир сладостный», строку 5-ю: «За злато в бешенство железо устремляем» исправил: «За золото, за прах железо устремляем», то есть внес оценку золота как «праха», что для стиха было важнее характеристики порыва – «в бешенстве...» Строка 20-я подверглась уточнению – взамен: «В беспечности своей от самых юных дней» поставлено: «.. .от колыбельных дней». Строкой 43-й Батюшков продолжил речь поэта: «Пускай, скажу, в полях неистовый герой...»; в журнале было: «Пускай народов бич...» – то есть удваивался отзыв о «неистовом герое». Поправки эти как будто бы улучшают текст, и Пушкин их принимает. Замена эпитета – и не только его одного, – о котором идет речь, произведена в следующих стихах: А мне, – коль благости сей буду я достоин, – Батюшков переделал строки 45 – 48-ю так: А мне – пусть благости сей буду я достоин – Новый вариант усилил в стихах личное начало – воин стал «товарищем юности» самого поэта, он чертит «лагерь» только для своего собеседника. Такова авторская воля, но нельзя не увидеть, что как в данном случае «пролитое вино» точнее «веселого вина», так и «ратный стан» лучше передает тему беседы и содержание чертежа, чем «лагерь», хотя значение этих слов в контексте может быть одинаковым. На родине мой кров, Пушкин знал первопечатный текст 1814 года («Пантеон русской поэзии», кн. 4-я) и на поле указал: «Было прежде: белым снегом». Точный, реальный эпитет Батюшков заменил эмоциональным – «ярким» снег представляется пленному на берегу Роны, лишенному возможности его видеть и ощущать, ярки воспоминания о любимой. В следующей строфе Батюшков говорит, куда и к кому стремится пленный: На родину, в сей терем древний, Пушкин подчеркнул «красу» и приписал: «Вместо красавица. Неудачно». Иногда Пушкин предлагает Батюшкову более точные выражения и слова. Например, против строки: «До гроба я носил твои оковы нежны» он пишет: «Узы». Оковы, то есть кованые цепи, «нежными» быть не могут. «Узы» «металлической» характеристики не имеют, их можно представить себе в виде гирлянды цветов, и тогда эпитет «нежный» будет на месте. Против строки: «И ты, Любови мать! Когда же Парк сужденье...» Пушкин пишет: «Приговор» – результат разлуки Тибулла с Делией, простое «сужденье» не может вызывать такие последствия. К наказанию Тибулла Парки именно «приговорили». 2 В некоторых заметках Пушкин поправляет ошибки Батюшкова, допущенные им по неведению или небрежности. Например, в «Элегии из Тибулла» Батюшков написал: Богами ввержены во пропасти бездонны, Пушкин заметил: Стихотворение «Гезиод и Омир соперники» начинается во втором томе «Опытов» так: Народы, как волны, в Колхиду текли, Прочитав эти строки, Пушкин сердито написал: В тексте стоит «Колхида», а надобно «Халкида» – так назывался город на острове Эвбея, где происходили игры и поэт Гезиод получил награду за свое пение. Не заметил было неточности и Н. И. Гнедич, издававший «Опыты». Однако ошибку он обнаружил еще до выхода книги в свет и указал на нее в перечне опечаток, приложенном к тому, сказать вернее – открывавшем его, – случай, примечательный в своем роде и не вошедший затем в издательскую практику. Пушкин в этот список не заглянул и «Халкиду» не увидел. К тексту этого стихотворения Пушкин сделал несколько замечаний. По поводу строки: «Пройдя из края в край гостеприимный мир» он записал: «В конце сказано: рожденный в Самосе и проч. противуречие». Читаем конец стихотворения: Рожденный в Самосе убогий сирота Вслед за этими строками приписка Пушкина: Оригинал принадлежит французскому поэту Мильвуа (1782 – 1816). В чем же «противуречие»? Сначала сказано, что мир был для Омира (Гомера) гостеприимным, а в конце – что он бродит из края в край Эллады, не находя пристанища. И со стороны Пушкина это не придирка, а деловое редакторское замечание – автор должен помнить свой текст и не ставить героя в противоречивые положения. В одной из строк Пушкин отметил «пример удачной перемены цезуры» («Твой гений проницал в Олимп: и вечны боги...»), в другой нашел «библеизм неуместный» и подчеркнул его («И что ж? В юдоли сей страдалец искони...»), в третьей оспорил эпитет «суровая», приложенный к Мнемозине, богине памяти, матери девяти муз, – отчего она должна быть суровой? А две строфы отчеркнул и рядом написал: «Прекрасно!» Коней отрешите от тягостных уз Стихи, вероятно, понравились Пушкину реалистической ясностью рисунка, четким изображением сцены возвращения бойцов с поля соревнований. Стойла «прохладны» здесь в буквальном смысле – температура в них ниже, чем за стенами конюшни. Может быть, стихи эти своим размером напомнили Пушкину трехстопный амфибрахий его собственной «Песни о вещем Олеге». И конь ведь тоже участвует там. Словом, строфа понравилась. В другой строфе, заслужившей одобрение Пушкина, Омир говорит Гезиоду: Мне снилось в юности: орел громометатель Пушкина могла привлечь в этой строфе идея предсказания могущества поэта, сообщенная орлом юноше, которого он с берегов реки Мелес поднял в небо, чтобы показать ему землю как сферу его будущего влияния. Громометатель орел озабочен судьбою поэта и как бы наделяет его своею божественной силой. «...Там первые увидишь розы Против строки с просьбой «закрыть памятник» Пушкин написал: «Черт знает, что такое!» – и несколько строк подчеркнул, а против «небосклона» поставил краткое: «Дурно». Эти унылые романтические стихи были чужды Пушкину по существу, а кроме того, он, вероятно, не ощутил в них логического развертывания темы. Почему «вдруг» увянешь, увидев первые розы? Мысль выражена неясно. «Цветочки милы» – слащаво, уменьшительный суффикс не идет к описанию печальных предметов. Почему эти цветочки должны будут «закрыть собою» путь к могиле от «взоров дружбы», чем провинились перед певцом его друзья? И т. д. Стихи позволяют задать эти вопросы, и, следовательно, они нуждаются в правке. Под стихотворением «Последняя весна» Пушкин подписал: «Неудачное подражание Millevoye». К стихотворению «Источник» он также сделал неодобрительное примечание, сказав, что оно «не стоит ни прелестной прозы Парни, ни даже слабого подражания Мильвуа». Об этом поэте Пушкин был невысокого мнения. В черновике письма П. А. Вяземскому 4 ноября 1823 г. из Одессы Пушкин, споря с ним о понимании романтизма, замечал, что А. Шенье «из классиков классик», романтизма у него «нет еще ни капли», Парни – «древний», Мильвуа – «ни то, ни се, но хорош только в мелочах элегических» (10, 651). Мы учиним пред ним обильны возлиянья И далее: Против тех и других строк Пушкин поставил: «Проза». Подчеркнутые слова не подходят для поэтических произведений – глагол «учинять» канцелярский, словосочетание «выигрывает бой» имеет характер игорно-военный. Кроме того, на поле Пушкин составил фразу и заключил ее тремя восклицательными знаками: «Увенчаем в знак венчанья!!!» Батюшков допустил тавтологический оборот, и это не скрылось от Пушкина. Все дар его: и краше всех «Неудачный оборот и дурные стихи» встретил Пушкин в стихотворении «Воспоминание»: Да оживлю теперь я в памяти своей «Вкушать болезнь» в «ужасную минуту», «умереть не в родине» – стихи в самом деле нехороши. «Скальд и бард одно и то же, по кр(айней) мере – для нашего воображения». Смысл этих названий одинаков, стало быть, не надо путать читателя, обойдись либо тем, либо другим. «Смысл выходит – холодными словами любви – запятая не поможет». Стихотворению «Пленный» Пушкин посвятил несколько заметок, образовавших как бы комментарий к нему. Против строфы второй: В часы вечерния прохлады Пушкин написал: «Любимые стихи к(нязя) Вяземского», а вторую и четвертую строки подчеркнул, означив тем свое неодобрение. Отдайте ж мне мою свободу! К этому стихотворению Пушкин сделал общее примечание: Пушкин нашел в этом стихотворении культурно-историческую несообразность, легко допущенную поэтом-романтиком, но неприемлемую для писателя-реалиста, каким был зрелый Пушкин. Под стихотворением «Переход через Рейн» Пушкин приписал: «Переход через Рейн» состоит из 136 строк. В стихах отражены личные впечатления автора, участника преследования в 1814 году отступавшей французской армии, и воспоминания сочетаются с картинами истории народов, населявших рейнские берега. Эти два плана – личный и всемирно-исторический – соединяются в сознании поэта, понимающего, что на его долю выпала честь принять участие в крупнейшем событии – в победе над армией Наполеона I, недавнего властителя Европы. Чувство гордости за Россию, сумевшую изгнать французских завоевателей, явственно звучит в строках стихотворения. Автор набрасывает картины истории Рейна: «Здесь кесарь бился, побежден», тут происходили рыцарские турниры, «тевтонски пели здесь певцы», – но пришли времена «стыда и плена»: Давно ли брег твой под орлами Французы завладели всем течением Рейна, они кичились и пили вино «из синих хрусталей». Однако спасение близилось. И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов, Дальше следуют строфы, посвященные русской армии и сценам подготовки к форсированию Рейна. Русским солдатам поэт придает черты античных воинов и наряду с современным оружием называет секиры и дротики гомеровских времен. Пушкин прощает ему это соединение и пишет: «Прелесть» – у строк: Там всадник, опершись о светлу сталь копья, Войска изготовились к переходу, отслужен молебен, движение началось, «валит за строем строй» – И враг, завидя их, бежит, Картина создалась широкая, полная, она была со всех сторон отделана Батюшковым, и Пушкин сумел оценить его поэтический труд. Перед элегией «Умирающий Тасс» Пушкин приписал: Замечание Пушкина, о котором он говорит, такое: «Добродушие историческое, но вовсе не поэтическое» – и расположено в книге против следующих строк, в которых Тасс жалуется, что, гонимый судьбой, он искал пристанища, чтобы укрыться от ее карающих молний, но не нашел приюта нигде: Ни в хижине оратая простого, Альфонс II, феррарский герцог, при дворе которого жил Тасс, относился дурно к великому поэту, допускал, чтобы челядь травила его, и потому никак не следовало говорить, что Тасс будто бы находился «под защитою Альфонсова дворца». Новейший исследователь, сравнив – по совету Пушкина – элегию Батюшкова со стихотворением Байрона, так формулирует свои выводы: «В произведении Байрона Тассо от начала до конца полон пылкой любви к Элеоноре. Между тем у Батюшкова он вспоминает о ней только в последних двух строчках своего большого монолога, и лишь для того, чтобы сказать о загробной встрече с возлюбленной... У Байрона Тассо в конце своего лирического монолога горячими, страстными словами проклинает герцога и грозит ему возмездием... Смысл упреков, которые высказал Пушкин не только как писатель, но и как требовательный читатель, а если точнее – редактор, – мы и пытались найти и объяснить на предыдущих страницах.
Источник: Западов А. В. Читая Батюшкова/ А. В. Западов // От рукописи к печатной странице: о мастерстве редактора. – М.: «Сов.писатель», 1978. – С. 96–112.
|
|