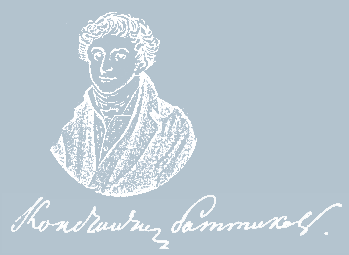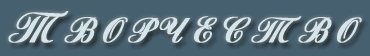|
В десятилетнем возрасте Константин Николаевич был отдан в петербургский частный пансион француза Жакино. В 1801 гон перешел в пансион итальянца Триполи. Шестнадцати лет, 1 803 г., Батюшков оставил пансион, и на этом закончилось его образование. Своим учителям Батюшков обязан был знанием языков. Французским языком он владел в совершенстве. Слабее знал итальянский язык, не говорил на нем (практически он изучил его позднее, в Италии), но свободно читал итальянских поэтов (правда, в его ранних переводах заметно недостаточное знание итальянского языка). Кроме того, он изучал немецкий и латинский языки.
Уже в пансионе Батюшков начал писать стихи. Увлечение литературой поощрял его дядя, поэт Михаил Никитич Муравьев (1757–1807), руководивший занятиями Батюшкова.
Окончив пансион в 1803 г., Батюшков поступил на службу делопроизводителем в министерство народного просвещения. Служба тяготила Батюшкова. Он никогда не мог примириться с канцелярской работой, с бюрократическим духом, хотя обстоятельства постоянно принуждали его служить. В 1811 г., 27 ноября, он писал Гнедичу: «Служить из тысячи рублей жалованья титулярным советником, служить и готовиться к экзамену подобно Митрофану... служить писцом, скрибом... Нет, нет, это все свыше меня». Батюшков нашел среди своих сослуживцев много молодых писателей, с которыми он подружился. Особенно стал ему близок Н. Гнедич. На много лет с этого времени Гнедича связывала с Батюшковым теснейшая дружба; Батюшков внимательно прислушивался к литературным советам и критике Гнедича. Среди других сослуживцев Батюшкова была группа участников литературного объединения «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Это были И. П. Пнин, Н. А. Радищев (сын), И. М. Борн и др. Естественно, что Батюшков связался с этим обществом. После первого выступления на страницах московского журнала «Новости русской литературы» в январе 1805 г. он начал сотрудничать в журналах, где печатались произведения членов «Вольного общества» («Северный вестник», «Журнал российской словесности»), а вскоре, 22 апреля, уже был избран в действительные члены общества.
Впрочем, писал Батюшков немного и, например, в 1806 г. он напечатал только одно стихотворение. В следующем, 1807 г., он по собственному желанию оставил гражданскую службу и записался в ополчение. Его часть была отправлена на места военных действий против Наполеона в Пруссию. Через два дня по прибытии в часть Батюшков был ранен в сражении под Гейльсбергом 10 июня 1807 г. и эвакуирован в Ригу, где и находился два месяца на излечении. Отсюда он отправился в деревню отца, в Даниловское. Здесь его ожидали семейные неприятности. Отец его женился вторично, и это послужило причиной раскола в семье. Дети от первого брака, Константин Батюшков и две его сестры, переселились из имения отца в деревню их покойной матери, в Хантоново (Череповецкого уезда). А здесь еще он получил тяжелое для него известие о смерти своего дяди Муравьева, самого близкого своего родственника; в его доме он жил до отъезда на войну. Батюшков перебрался в Петербург; здесь перенес тяжелую болезнь и по выздоровлении вернулся в полк.
Жизнь в Петербурге в 1807 г. сблизила Батюшкова с семьей А. Н. Оленина, близкого друга покойного Муравьева. Оленин был покровителем и любителем искусства и литературы. Собиравшееся у него общество, где видное место занимал Н. И. Гнедич, соответствовало литературным наклонностям Батюшкова. Здесь господствовало преклонение перед образцами античной древности, но не такое, как у французских классиков и их подражателей. Друзья Оленина считали идеалом прекрасного подлинную античность как в литературе, так и в изобразительном искусстве. Взгляды оленинского круга на искусство отразились в позднее написанной Батюшковым статье «Прогулка в Академию художеств». Литературные связи и симпатии Батюшкова в этом кругу расширились. Оленин и его круг были поклонниками драматической деятельности Озерова (вообще театральные интересы занимали много места в кружке); здесь Батюшков сблизился с Крыловым (что отразилось на заключительной части «Видения на брегах Леты»), а также с драматургом А. А. Шаховским, который предпринял издание «Драматического вестника»; Батюшков стал деятельным сотрудником этого журнала. Весной 1808 г. Батюшков, по выздоровлении, отправился в войска, действовавшие в Финляндии. Ему не пришлось принять участие в военных действиях, но он целый год провел в походах. Впечатления от северной природы отразились в его очерке «Из писем русского офицера о Финляндии».
Летом 1809 г. Батюшков вернулся из армии в Петербург, а оттуда переехал в Хантоново. Здесь он проводил время в литературной работе. Именно к этому пребыванию в деревне относится его боевая сатира «Видение на брегах Леты», определившая его отношение к литературной борьбе тех лет. Сатира быстро получила широкое распространение и вызвала неудовольствие в среде осмеянных в ней сторонников А.. Шишкова. Все сгруппировавшиеся вокруг Шишкова литературные староверы, соединявшие идеи политической реакции с идеями возврата к формам языка и литературы прошлого, вплоть до неумеренного употребления вымерших церковно-славянских оборотов в литературном языке, – все они отнеслись к сатире как к серьезному нападению врага. Об этом Батюшков узнал уже позднее в Москве, куда он переехал из деревни в самом конце1809 г.
В Москве Батюшкова ожидали новые знакомства и новые литературные связи, которые многое определили в его дальнейшей жизни и литературной деятельности. Он сдружился здесь с группой молодых последователей и почитателей Карамзина, впоследствии вошедших в литературное объединение «Арзамас». Среди новых друзей Батюшкова были: Василий Львович Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский. До сих пор его литературным собеседником (в постоянной переписке и в личном общении) был Н. Гнедич: начиная со времени пребывания Батюшкова в Москве влияние карамзинистов начинает преобладать над влиянием Гнедича. Он остается в приятельских с ним отношениях, но явно склоняется к единомыслию с П. А. Вяземским. Здесь же, в Москве, Батюшков познакомился и с Н. М. Карамзиным, и это окончательно поставило его в ряды карамзинистов, борьба которых против осмеянных уже Батюшковым шишковистов в эти годы особенно разгоралась.
Между тем, Батюшков, считая себя обойденным по службе, вышел в отставку и жил в качестве помещика на доходы с имения, проводя время то в Москве, то в Хантонове. Поместье его, хотя и запущенное, давало доход для неприхотливой жизни; впрочем, оброка недоставало для дорогой столичной жизни или для поездок, а о путешествии за границу на собственные средства Батюшков не мог и думать. Всё это заставляло Батюшкова искать службы, как для дополнительных доходов, так и для «положения» в обществе. Мысль о необходимости служебной карьеры его не покидала. Он мечтал не о канцелярской, а о дипломатической деятельности, которая дала бы ему возможность посетить Европу. В начале 1812 г. он приехал в Петербург. А. Н. Оленин устроил его в Публичной библиотеке. Здесь его сослуживцами, кроме его друга Гнедича, были многие члены кружка Оленина, в том числе И. А. Крылов. С другой стороны, Батюшков познакомился с петербургскими друзьями и почитателями Карамзина: А. И. Тургеневым, Д. В. Дашковым и Д. Н. Блудовым. С новыми друзьями Батюшков в «Обществе любителей словесности, наук и художеств» образовал особую группу. Общество, когда-то передовое, в это время приходило в совершенный упадок. Вся группа, в которую входил Батюшков, покинула общество после исключения из него Дашкова (в связи с инцидентом при выборах в почетные члены графа Хвостова, которого Дашков высмеял в приветственной речи).
Между тем началась война 1812 г. болезнь помешала Батюшкову принять в ней участие в самом начале. Кроме того, бедственное положение его тетки Муравьевой в Москве заставило его выехать к ней на помощь. Он прибыл в Москву накануне Бородинского сражения. Вместе с Муравьевой и ее семейством он отправился в Нижний Новгород, куда направлялось большинство беглецов из Москвы, оставленной русскими войсками. Из Нижнего Батюшков выехал в Москву после ухода французов. События 1812 г. подействовали на настроения Батюшкова и заставили его пересмотреть свои прежние взгляды и отказаться от прежних симпатий. Из Москвы он писал Гнедичу: «Ужасные поступки вандалов, или французов, в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством». Впечатления от посещения Москвы отразились в его стихотворении, адресованном Дашкову: «Мой друг, я видел море зла».
|
Я видел бедных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутьи видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
………………………….
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь,
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты.
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!
|
Вернувшись в Нижний, Батюшков встретил здесь приехавшего на излечение генерала А. Н. Бахметева, раненного под Бородином. Батюшков, решивший снова служить в армии, поступил к нему в адъютанты. Отъезд в армию задержался, так как выяснилось, что по состоянию здоровья Бахметев в армию вернуться не может. Батюшков поехал один и был направлен адъютантом к генералу Н. Н. Раевскому. Русскую армию он застал в Дрездене. С первых же дней по прибытии ему пришлось участвовать в сражениях; ранение Раевского в битве под Лейпцигом (4 октября) на два месяца удалило Батюшкова от военных действий: он последовал за Раевским в Веймар, где и оставался до его выздоровления. Вернулись они в армию уже к концу кампании. Батюшков присутствовал при капитуляции Парижа. Здесь Батюшков прожил два месяца. Парижские театры, музеи произвели на Батюшкова сильное впечатление. Он опешил ознакомиться с жизнью города, бродил по его улицам и бульварам; и письма его полны впечатлений от пестрой, красочной жизни Парижа.
Из Парижа через Лондон, затем Швецию и Финляндию Батюшков вернулся в Петербург. Здесь он остановился в дружеской семье Олениных. В этой семье росла и воспитывалась молодая девушка Анна Федоровна Фурман. Батюшков знал ее с детства. Теперь, когда она была уже взрослой девушкой, Батюшков решил жениться на ней. Дело было уже почти улажено, и Оленины сочувствовали браку, но Батюшков убедился, что невеста дала согласие против своего желания. Он отказался от брака и уехал из Петербурга. Между тем, в Хантонове дела приходили в расстройство. Пришлось заняться хозяйством и для этого ехать в деревню. Пробыв здесь некоторое время, Батюшков направился по месту службы, в часть, где находился его начальник Бахметев, в Каменец-Подольск. Он надеялся не долго оставаться в этом городе, рассчитывая на перевод в гвардию. Однако перевод не последовал. Служебные неудачи, вынужденное пребывание в мелком провинциальном городе обострили тяжелое настроение, вызванное расстройством его плана женитьбы. В конце 1815 г. он подал в отставку и выехал из Каменец-Подольска в Москву, где и стал ожидать ответа на свое прошение об отставке. Здесь Батюшков занялся подготовкой к печати своих произведений, издание которых поручил Н. Гнедичу. Много внимания было уделено прозе, которая составила первый том «Опытов»; стихи вошли во второй том.
1816–1817 гг. – время наибольшей литературной известности Батюшкова. В частности, это выразилось в избрании Батюшкова в члены «Московского общества любителей русской словесности» в июле 1816 г. При вступлении на заседании общества была прочитана его речь «О влиянии легкой поэзии на язык». Вскоре затем он был избран в члены «Казанского общества любителей словесности», а после выхода в свет «Опытов» – почетным членом «Вольного общества любителей словесности» (в Петербурге). Но наиболее близким Батюшкову объединением был «Арзамас». В этом обществе объединились все его друзья-карамзинисты. Общество организовалось в порядке дружеских собраний частного характера 14 октября 1815 г., и в число его членов заочно включен был и Батюшков, который при этом получил арзамасскую кличку «Ахилл», вероятно за свои боевые сатиры против Шишкова и шишковцев: «Видение на берегах Леты» и особенно «Певец в Беседе русского слова» (постоянные болезни Батюшкова дали основание к арзамасскому каламбуру: «Ахилл, ах, хил»). «Арзамас», который ставил себе целью борьбу с «беседиетами», конечно, должен был считать Батюшкова в числе своих главных членов. Однако Батюшков не скоро принял участие в заседаниях «Арзамаса»; лишь 27 августа 1817 г., вскоре после его приезда в Петербург, состоялся официальный его прием с соответствующими юмористическими обрядами: Блудов говорил приветственную речь, а Батюшков произнес «отходную» речь о секретаре Российской академии П. И. Соколове. В октябре вышли в свет «Опыты».
В ноябре 1817 г. умер отец Батюшкова. Пришлось отправиться в деревню, чтобы спасти имение от окончательного разорения. В эти же годы изменилась и внешняя судьба Батюшкова. Оставив военную службу, он еще в августе 1817 г. опять устроился в Публичной библиотеке, не переставая ходатайствовать о службе в дипломатическом ведомстве; он надеялся таким образом осуществить поездку в Италию. Между тем, в мае 1818 г. по болезни ему пришлось уехать в Одессу. Ожидаемого выздоровления Батюшков не нашел и уже собирался поехать в Крым, как пришло известие о назначении его в русскую миссию в Неаполь. Назначение это состоялось благодаря хлопотам А. И. Тургенева, который и поспешил известить Батюшкова об успехе своего ходатайства.
Отказавшись от поездки в Крым, Батюшков немедленно выехал в Москву; оттуда он ненадолго поехал в деревню и затем вернулся в Петербург. Здесь он провел всё время в приготовлениях к отъезду и, наконец, 19 ноября 1818 г., после прощания с друзьями-арзамасцами, выехал в Неаполь через Варшаву, Вену, Венецию и Рим.
Путешествие продолжалось долго. Лишь в январе Батюшков прибыл в Рим, где и остановился на некоторое время (отчасти по болезни). Письма его из Италии свидетельствуют об огромном впечатлении, какое на него произвело первое знакомство с итальянскими городами и итальянской природой. «Одна прогулка в Риме, один взгляд на форум, в который я по уши влюбился, заплатят с избытком за все беспокойства долгого пути», – писал он Оленину по приезде в Рим. «Какая земля! Верьте, она выше всех описаний для того, кто любит историю, природу и поэзию; для того даже, кто жаден к грубым чувственным наслаждениям, земля сия – рай земной» (письмо Уварову из Неаполя в мае 1619 г.).
Здоровье Батюшкова всё ухудшалось. Вскоре Батюшков из Неаполя выехал в окрестности, на Искию, – остров, где находятся источники горячей соленой воды. Но и эти ванны не помогли ему. Болезнь Батюшкова осложнялась его подавленным настроением: в Неаполе он чувствовал себя одиноким, итальянское общество его не удовлетворяло, с русскими друзьями переписка не налаживалась. Первое время по поручению А. Оленина он сблизился с русскими художниками, жившими в Риме. Один из них, Щедрин, даже некоторое время жил с Батюшковым на одной квартире в Неаполе. Чувство тоски не покидало Батюшкова. Служебные неприятности, нелады с послом, графом Штакельбергом, осложнение положения русского посольства в условиям революционного движения в Неаполе с начала июля 1820 г. – всё это заставляло Батюшкова стремиться покинуть Неаполь. Наконец в декабре 1820 г. он получил разрешение Штакельберга переехать в Рим, и ему удалось устроиться здесь в русской миссии. Но в Риме его здоровье еще ухудшилось. Постоянные невралгические боли; которыми он страдал с юных лет и от которых стал систематически лечиться еще с 1817 г., настолько усилились, что посол в Риме А. Я. Италинский исходатайствовал для него отпуск для лечения, и Батюшков направился в Чехию, на Теплицкие минеральные воды, которые славились как лучшее средство против ревматизма и невралгии.
В Теплице, куда он приехал летом 1821 г., силы сперва, как будто к нему вернулись. Он снова начал писать стихи, в то время как в Италии он, по собственному его признанию, вовсе не мог заниматься поэзией. Именно в Теплице Батюшков начал подготовку второго издания своих произведений и создал несколько стихотворений, едва ли не лучших из всего написанного им. Но это были последние его стихи. Несмотря на то, что он начал лечиться с необыкновенным упорством, вскоре появились симптомы, по которым можно было угадывать развивавшуюся душевную болезнь. В частности, друзей поэта поразило, с какой странной раздражительностью он отнесся к двум, по существу мелким, фактам: в «Сыне Отечества» были напечатаны Воейковым сообщенные Блудовым новые стихи Батюшкова. Воейков исказил текст стихов; Блудов печатно указал на искажения. Воейков в свою очередь вступил в полемику с Блудовым, который, приехав в Теплиц, рассказал Батюшкову о происшедшем. Около того же времени Плетнев напечатал в том же «Сыне Отечества» стихи без подписи под заглавием: «Б.....в из Рима», где с самыми добрыми намерениями от имени Батюшкова сообщал, как он скучает в Италии и стремится на родину. На оба эти факта Батюшков взглянул с чрезвычайным раздражением, усмотрев в том желание оскорбить его. Он написал Гнедичу два письма, приложив к ним обращение к «издателям «Сына Отечества» и других журналов», в котором, протестуя против стихов Плетнева и своевольного напечатания «Эпитафии», заявлял: «Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я в бытность мою в чужих краях ничего не писал и ничего не буду печатать с моим именем». Гнедичу он писал: «Нет, не нахожу выражений для моего негодования: оно умрет в моем сердце, когда я умру. Но удар нанесен. Вот следствие: я отныне писать ничего не буду и сдержу слово». Друзья поэта были в недоумении. Однако болезнь еще не приняла явных форм.
Так как болезненные симптомы не уменьшались, Батюшков направился в Дрезден, намереваясь оттуда ехать во Францию. Из Дрездена он подал прошение об отставке. Здесь с ним виделся Жуковский. Он записал в своем дневнике, что Батюшков рвал ранее написанное и говорил: «Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилося».
В Дрездене Батюшков остался до весны 1822 г. Получив от министра иностранных дел Нессельроде отпуск вместо отставки, Батюшков направился в Петербург, а оттуда на Кавказские минеральные воды. Здесь сумасшествие его определилось окончательно. В августе он поехал в Крым, в Симферополь. Болезнь его приняла тяжелую форму; Батюшков несколько pas покушался на самоубийство. Он поступил под непосредственное наблюдение врачей, и с этой поры начинается его длительное существование в качестве душевнобольного. Сперва делали попытки его лечить и для этого поместили в больницу для душевнобольных в Зонненштейне (на Эльбе, в Саксонии), где он пробыл четыре года без всякого изменения в состоянии здоровья. После этого его перевезли в Москву, где он провел три года, а затем в Вологду. Здесь он прожил более двадцати лет и умер 7 (19) июля 1855 г. от тифа.
Болезнь, прервавшая деятельность Батюшкова, подготовлялась издавна; она была наследственной и проявилась также и на его сестре, которая сошла с ума в 1829 г. Наследственность эта – от матери, умершей в сумасшедшем доме: впрочем, и по отцовской линии, по-видимому, Батюшков тоже унаследовал предрасположение к нервному заболеванию. Повышенная нервная раздражительность наблюдалась у него и до болезни.
Еще в 1809 г. он писал Гнедичу: «Если я проживу еще десять лет, я сойду с ума... Мне не скучно, не грустно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что делать?» И подобное настроение постоянно к нему возвращалось. В 1810 году он писал Жуковскому: «Болезнь меня убивает... у меня в голове сильный ревматизм, который набрасывает тень на все предметы. Пожалей обо мне! И не знаю, когда будет конец моим мучениям!»
2
Первые шаги Батюшкова на поприще поэзии относятся ко времени пребывания его в доме М. Н. Муравьева. «Всем известно, что я многим обязан покойному автору, – писал он о Муравьеве, – его память будет мне драгоценна до поздних дней жизни и украсит их горестным и вместе сладким воспоминанием протекшего!»
М. Н. Муравьев был главным образом прозаик; проза его – это проза моралиста, и морализм является характерным признаком его произведений. В. главнейших его «Опытах» («Обитатель предместья» и «Эмилиевы письма») впечатления и «чувствования» автора составляют главный предмет писаний. И эта морализующая сторона деятельности Муравьева произвела наибольшее впечатление на Батюшкова. Он сочувственно цитирует его сентенции.
Но мораль Муравьева, когда он говорит о «симпатии прекрасных душ», о добродетели, о добром сердце и чистой совести, отличается сентиментальным вседовольством и пассивностью. Она бездеятельна и сводится к идеалу внутреннего совершенства («не вне, а в нас самих и бед и счастья семя») и к любованию красотами мира. Так, в «Эмилиевых письмах» он касается вопроса о труде крестьянина, «проливающего пот над собственною полосою». Однако созерцание тяжелого крестьянского труда наводит Муравьева лишь на идиллические мечтания о том, как «в виду хижин и пастухов, при шуме падающего источника» он будет читать стихи Виргилия, где воспевается счастье Земледельцев, хотя и не знающих богатства; но довольствующихся малым и терпеливых в труде.
В своих стихах М. Н. Муравьев не был смелым новатором; он в основном продолжал традицию XVIII века (его стихи относятся к 70-м и 80-м годам этого века): «Хочу итти тою же стезею, какою шли Сумароков, Херасков, Майков, Княжнин, и отрицаюсь от всего другого», – говорил он. Тем не менее, элементы нового присутствуют в его стихах. В поэзии Муравьева сквозь обветшалую форму, сквозь реакционные настроения благодушного помещика пробивались и ростки нового, еще робкие. Это были проблески русского сентиментализма, пассивные, лишенные гражданского содержания, но уже преодолевавшие риторические формы классической поэзии, обращавшиеся к тем «чувствованиям» человеческой души, которые были предпосылками идей гуманизма, еще не осознанных автором. В его стихах, вольно или невольно, проявляются и поиски нового, получившего свое истинное развитие только в новом веке. Стихи Муравьева, как относящиеся к переходному периоду в русской поэзии, вскоре были основательно забыты, и лишь цитата из его стихотворения «Богине Невы» в авторских примечаниях к «Евгению Онегину» сохранила о нем память до наших дней.
Батюшков воспринял у него, конечно, не элементы традиции, а прогрессивные тенденции, те меланхолические размышления и описания, которые предопределили или предупредили расцвет элегической поэзии.
Смысл и направленность литературной деятельности Муравьева раскрылись перед Батюшковым в годы его близости с кружком А. Н. Оленина, связанного с Муравьевым литературной и личной дружбой.
Кружок Оленина занимал позиции промежуточные. Имена Крылова и Шаховского, к которым Батюшков сохранил симпатии на всю свою жизнь, не определяют стиля, господствовавшего там. Этот стиль характеризуется именами А. Н. Оленина, В. Озерова, Н. Гнедича.
Интересы Батюшкова не были ограничены сферой одной поэзии. Он знал и чувствовал изобразительные искусства. Сам он был незаурядный дилетант-рисовальщик; в своей статье «Прогулка в Академию художеств» он дал образец художественной критики; в Одессе он заинтересовался раскопками в районе Ольвии; в Риме и Неаполе он поддерживал тесную связь с русскими художниками, входил в их профессиональные интересы, в их быт, давал им заказы, рекомендовал их другим заказчикам. Вкусы Оленина, а вслед за ним Батюшкова, всецело классические, академические. Характерно, с каким презрением писал Батюшков из Рима о неклассических традициях в скульптуре: «Здесь я видел собрание египетских статуй для двора баварского: по совести они жалки, и учиться над ними нечего. Могут быть интересны для антикварий или для истории искусства, но для художника – ни мало. Формы варварские!» С другой стороны, как искренни его восторги перед Аполлоном Бельведерским: «Он выше описания Винкельманова: это не мрамор, бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения! Я часто захожу в музеум единственно с тем, чтобы взглянуть на Аполлона, и, как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, лучшим возвращаюсь» (последние слова – цитата из И. И. Дмитриева). Этот классицизм вкусов соответствует столь же классическим принципам в трагедиях Озерова и всей деятельности Н. Гнедича по усвоению античных образцов эпоса. Данное направление было бы ошибочным смешивать с классицизмом французского толка, восходящим к «законодателям» XVII века. Классицизм, господствовавший до этого времени во Франции и в Европе, отлично уживался с мелочными и жеманными прикрасами в литературе, в живописи. Теперь же все изменилось. В архитектуре господствовал стиль empire, осуществивший стремления, определившиеся еще в эпоху революции, драпироваться под Рим и римскую республику (соответственно – империю при Наполеоне), даже костюмы приняли формы античных тог и плащей, что в быту еще умерялось потребностями общения и моды и условиями климата, а на сцене господствовало безраздельно. В живописи, начиная с Давида, классические темы являлись определяющими. То же было в литературе. Новое «Возрождение» определилось: тяга к восстановлению античных форм, подражание латинской и греческой лирике, попытки воскрешения погибшего мира древности приобретали все большее развитие и значение, по мере того как раскопки в Помпее, принявшие правильный и систематический характер именно в начале века, воскрешали перед глазами европейцев эпохи «империи» уголок погребенного под пеплом древнего города.
Оленин и его кружок и были пропагандистами русского ампира, характерного для первой четверти XIX века.
Стиль «ампир» вовсе не сводился к слепому воспроизведению античных форм; этот стиль явился на смену классицизму XVIII века под влиянием борьбы «чувствительности» с хладнокровным остроумием поэзии придворных салонов. Чувствительность и была определяющим признаком нового стиля. От древности брались наиболее чувствительные произведения; в лирике переводились и служили предметом подражания элегики: Тибулл, Катулл, Проперций. Меланхолия, мечтательность пролагали пути и иным влияниям, далеким от древности: ампир находил источники литературных вдохновений далеко от латинской и греческой древности, и не меньше, чем римские элегики, настроение века определяет Оссиан. «Северные поэмы» европейской литературы, темы скандинавской мифологии так же модны, как античные вазы и статуи.
Батюшков прошел сквозь эти влияния и увлечения. Воспитанный на французской литературе, он сквозь французские формы воспринял новые стремления. Элегическому направлению он учился у французского поэта Парни. В речи, читанной при вступлении в «Московское общество любителей русской словесности» (при университете), он во враждебно настроенной аудитории подчеркнул свою приверженность «эротической» поэзии, заимствуя этот термин из названия сборника элегий Парни: «Эротические стихи». В той же речи он формулировал идеал легкой поэзии, основанной на новом направлении в искусстве: простоте, ясности, гармоничности: «В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях».
Не менее увлекался Батюшков итальянской поэзией. Белинский писал: «Отечество Петрарки и Тасса было отечеством музы русского поэта. Петрарка, Ариост и Тассо, особливо последний, были любимейшими поэтами Батюшкова». Сочинения по истории итальянской литературы были его настольными книгами. «Чем более вникаю в итальянскую словесность, тем более открываю сокровищ истинно классических, испытанных веками», – писал он Вяземскому в 1817 г. И в том же письме он так отозвался о немецкой поэзии и о переводах Жуковского: «К чему переводы немецкие? Добро – философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы их, собственно литературы, то я начинаю презирать ее. У них всё каряченье и судороги. Право, хорошего немного» (Батюшков делал исключение лишь для Шиллера, из которого и сам переводил). Об английской литературе Батюшков почти не отзывался: он не знал английского языка и читал английских поэтов только в переводах (лишь одно – позднее – стихотворение Батюшкова, не конченное, является подражанием Байрону: «Есть наслаждение и в дикости лесов...»).
И, наконец, к поэзии античной древности Батюшков испытывал любовь на протяжении всей своей поэтической жизни. Белинский писал: «Светлый и определенный мир изящной, эстетической древности – вот что было призванием Батюшкова. В нем первом из русских поэтов художественный элемент явился преобладающим элементом. В стихах его много пластики, много скульптурности». Стремления, окрепшие в оленинском кружке, особенно в противопоставлении Шишкову и шишковствующим, подготовили в Батюшкове союзника арзамасцев. По отношению к Шишкову, который признавал только допетровскую Россию, позиция Батюшкова была более непримиримой, чем позиция других членов оленинского кружка. Это он доказал сатирическим «Видением» и позднейшей пародией «Певец в Беседе».
Естественно, что, прежде всего, Батюшков отозвался на модные тогда и ожесточенные споры о языке. Это были споры о старом и новом. Шишков и его единомышленники, не принимая ничего нового, стремились вернуться к обветшалым формам мертвого книжного языка, чуть ли не к языку книжников допетровского времени, т. е. к церковно-славянскому. «Славянщина» господствовала в писаниях шишковцев. Но сама жизнь выдвигала потребность в обращении к живым источникам русского разговорного языка, тем более что «славянский» язык не имел средств, чтобы выразить новые чувства и новые мысли, занимавшие передовое русское общество. И это-то и было источником борьбы Шишкова за «славянщизну». Его учение было откровенно реакционным. Он хотел повернуть историю вспять. Всякая новая мысль пугала его, как призрак революции. Своих противников он обвинял в безбожии и стремлении ниспровергнуть самодержавную власть. Наоборот, карамзинисты, не чуждавшиеся умеренно либеральных идей, боролись за русский язык, освобожденный от книжных пережитков старого. Борьбой русского с церковно-славянским и характеризуется спор о языке того времени. Однако необходимо оговориться, что карамзинисты, защищавшие живые формы русского языка, еще весьма ограниченно понимали истинные пути его развития. Только с приходом Пушкина в литературу открывается настоящая широкая и свободная дорога для развития русского литературного языка. Для карамзинистов не наступила ни пора полного освобождения от устаревшей «славянщины», ни пора широкого обращения к богатым источникам живой речи. Для них русский язык являлся языком дворянских салонов, нисколько не освободившихся от подражания чужому. Самые задали развития русского языка понимались как «способность выражать мысли просвещенного человека», а источники просвещения карамзинисты привыкли видеть на Западе.
Шишковскую «славянщину» Батюшков ненавидел. Когда в 1816 г. услышал он рассуждение Каченовского о языке Библии, он пришел в восторг: «Я не критик, я невежда, но, кажется, он режет истину. Он утверждает, что Библия писана на сербском диалекте1[1 Батюшков не мог знать ошибочности предположения Каченовского. Библия в действительности переведена была на древнеболгарский язык (солуньский диалект), который в русских церковных книгах видоизменился под влиянием русского языка. Но эта ошибка Каченовского не влияет на дальнейшие рассуждения: для Батюшкова важно, что язык церковных книг происходит от нерусского славянского диалекта, при этом диалекта мертвого]; то же, думаю, говорит и Карамзин. А славенский язык вовсе исчез; он чистый и не существовал, может быть, ибо под именем славен мы разумели все поколения славенские, говорившие разными наречиями, весьма отличными одно от другого. Он разбудит славенофилов. Если правду говорит Каченовский, то каков Шишков с партией! Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они исказили язык наш славенщизною! Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному, рабскому татарско-славенскому языку, как теперь. Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостоверяюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх искусства – похищать древние слова и давать им место в нашем языке, которого грамматика, синтаксис, одним словом, всё – противно сербскому наречию».
С арзамасцами Батюшков вступил в тесное общение до основания «Арзамаса». Приехав в Москву, он подружился с Вяземским, который приветствовал его боевое «Видение», и с Жуковским. Позднее в Петербурге он познакомился с Дашковым, Блудовым, Уваровым. С последним его связывали интересы к древности. Единственное «арзамасское» произведение Батюшкова, написанное совместно с С. С. Уваровым и изданное отдельной брошюрой, это брошюра «О греческой антологии», предполагавшаяся для арзамасского журнала. Батюшков не участвовал в «Арзамасе» в боевой период его деятельности. Когда он прибыл в Петербург, «Арзамас» уже клонился к упадку. Пародические церемонии с традиционным гусем к заключительному ужину уже теряли свой боевой смысл, так как враждебная «Беседа» уже прекратила свое существование. Забавляясь на подобных собраниях, Батюшков не разделял восторга арзамасцев перед этого рода деятельностью. «Каждого арзамасца порознь люблю, но все они вкупе, как и все общества, бредят, карячатся и вредят», – писал он Гнедичу в феврале 1817 г.
В расчете на журнал Батюшков незадолго до этого прислал в «Арзамас» свою статью «Вечер у Кантемира». Чтение этой статьи происходило на 17^м заседании «Арзамаса» в присутствии Карамзина, Блудова, А. И. и Н. И. Тургеневых, Жуковского, Уварова и др. В протоколе значится: «Светлана (Жуковский) вместе с прочими гражданами любовалась искусным фиглярством отсутствующего члена Ахилла: фиглярством, говорю я, ибо Ахилл, как тосканский фигляр, показал нам в своем волшебном фонаре тени покойных арзамасцев, французского Монтескье и греко-русского Кантемира. Они между собою говорят, как живые достойные члены «Арзамаса» (большей похвалы нет в лексиконе ученых обществ): иногда можно было узнать фигляра по голосу, но тени покойников и за это коленцо не рассердятся».
Любопытен этот собственный голос Батюшкова, который услышали арзамасцы в речах собеседников «Вечера у Кантемира». В этой статье Батюшков заставляет Монтескье выражать сомнение в возможности развития литературы в России, а Кантемира доказывать, что Север (т. е. Россия) «беспрестанно изменяется и прирастает к просвещенной Европе». Эту статью Батюшков считал интересной, но опасался, что цензура в ней что-нибудь вычеркнет. По-видимому, «нецензурная» часть статьи и есть «собственный» голос Батюшкова, рассчитанный на сочувственный отклик в «Арзамасе». Можно полагать, что это следующее место: «Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и непременным образом все формы правления; вы заметили сии изменения в земле русской. Время всё разрушает и созидает, портит и усовершает. Может быть, через два или три столетия, может быть, и ранее (разговор предполагался в начале 40-х гг. XVIII века) благие небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра: – и обширнейшая земля в мире, по творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законам, одним словом – хранилищем просвещения. Лестные надежды! Вы сбудетесь, конечно. Благодетель семейства моего, – благодетель Россия (Петр), почивает во гробе; но дух его, сей деятельный, сей великий дух – не покидает страны, ему любезной: он всюду присутствует, всё оживляет, всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу: он, кажется мне, беспрестанно вещает России: иди вперед! не останавливайся на поприще, мною отверзтом, и достигнешь великой цели, мной назначенной!» Так понимал задачи русской культуры Батюшков и с этим он обратился к арзамасцам. Это едва ли не единственное его «общественное» выступление. В своих социально-политических убеждениях он был несамостоятелен, примыкая к умеренно-либеральным кругам. Его политические и социальные взгляды (например, по отношению к крепостным) не четки и основаны на зыбком тяготении к не вполне осознанным принципам гуманности и «просвещения». Он никогда не отличался передовым и смелым свободомыслием. В своей речи о легкой поэзии он допустил ряд совершенно официальных фраз, возмутивших человека политического мышления, декабриста Никиту Муравьева («Кто выбирал автора представителем всех патриотов», – написал он против фразы о том, что все патриоты благословляют руку Александра I). Поэтому и тираду из «Вечера у Кантемира» надо понимать отнюдь не как формулировку политических взглядов автора, а как попытку перевести на язык общественно-политический устремленность своих культурных интересов и смысл своей деятельности, протекавшей в сфере чисто литературной работы.
3
Батюшков в своем творчестве примкнул к тому направлению в лирике, которое характеризуется стремлением к выражению субъективных чувствований. Это направление утверждалось в литературе с 70-х годов XVIII века.
Поэзия личного чувства являлась основной линией его лирики, но содержание ее менялось. Первые стихи Батюшкова, если не считать ряда дидактических сатир, воспевают наслаждение жизнью. Вся немудрая философия сводится к кратким изречениям:
|
Мечтанье есть душа поэтов и стихов...
Найдем ли в истинах мы голых
Печальных стоиков и твердых мудрецов
Всю жизни бренной сладость? ...
Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!
Но счастию певцов
Удел есть скромна сень, мир, вольность и
спокойство.
(Мечта)
Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здесь не вечна,
То лучше в жизни петь, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость с шутками мешать,
Чем, бегая за дымом славы,
От скуки и забот зевать …
(Совет друзьям) |
Эта философия беспечности, лени, наслаждений и поэтической мечтательности уже в первых стихотворениях осложнена предромантической меланхолией и сентиментальными настроениями переходного периода.
С первых шагов поэтической деятельности Батюшков решительно отказывается от высокой традиции оды XVIII века; он не хочет
|
...громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,
Надувшись пузырем, родить один лишь дым... |
Вместо громких од, он пишет тихие элегии:
|
Что в громких песнях мне? Доволен я мечтами,
В покойном уголке тихонько притаясь...
(Послание к Н. И. Гнедичу, 1805 г.) |
Уединение, дружба, любовь, мирные радости жигани, поэтическая мечта, преклонение «чувствованиям» и «сердцу», отрицание «холодного рассудка», – вот темы, определившиеся в ранних элегических стихах Батюшкова. Одновременно выступает тема природы, одушевленной, как бы участвующей в радостях поэта:
|
Луга веселые зелены.
Ручьи прозрачны, милый сад,
Ветвисты ивы, дубы, клены.
Под сенью вашею – прохлад
Ужель вкушать не буду боле?
(Совет друзьям, 1805 г.) |
Свои меланхолические чувствования Батюшков пробовал передавать не только в элегиях, но и в баснях. И в этих баснях, далеких по самой сущности своего жанра от громких од и требовавших искренности и простодушия, ему удавалось передавать мечтательное любование природой («Пастух и Соловей» и др.). Но ни басня, ни сатира не были свойственны врожденным качествам его поэтического дарования. Основными формами его стихов являются элегии и дружеские послания.
С 1809 г. появляются произведения, доставившие Батюшкову известность: это – пародическое «Видение на брегах Леты», распространившееся в списках, элегические «Воспоминания 1807 года», лучшие переводы из Парни, из Тибулла; к 1811 г. относится большое «Дружеское послание» к Жуковскому и Вяземскому «Мои пенаты». Будучи подражательным, это послание в свою очередь послужило предметом для подражания; одним из таких подражаний является «Городок» Пушкина. Для всех этих посланий характерен эпикурейский тон описания бедной хижины поэта, где он наслаждается любовью с «Лилетой»; центральной же частью является описание библиотеки поэта: перечислением и характеристикой любимых авторов поэт как бы формулирует свои литературные убеждения. В перечне «Моих пенатов» находится Ломоносов, Державин, Карамзин, Богданович, Дмитриев, Хемницер и Крылов. Первые два имени, как бесспорные, не определяли литературного направления, что же касается остальных, они чрезвычайно характерны для Батюшкова, вплоть до соединения имен Дмитриева и Крылова.
1812 г. вызвал у Батюшкова военные темы. Отсюда появляется его тяготение к оде. Одическая форма применена им в стихотворении «Переход через Рейн», но ода уже не возрождена в ее витийственно-торжественной форме; эти стихи переходят в элегические размышления, в которых от оды осталась широта темы (исторический пробег и картины прошлого вначале) и обязательный финал. Но общий тон уже диктуется в лучшем случае мотивами героики и мечтательности в духе модной тогда «северной» лирики, с обязательным упоминанием «туманных облаков», «нагорных водопадов» и именованием поэтов «бардами». Более близким настроению поэзии Батюшкова является следующее стихотворение той же строфической формы: «На развалинах замка в Швеции». Размышления и лирические картины на фоне преромантического «унылого» пейзажа уже господствуют в этой элегии. Мрачный оссианизм дает тему для развития. Оба этих произведения объединяются и несколько более широким, чем обычно, употреблением торжественно-книжного, архаического языка (славянизмы: «поднесь», «вой», т. е. воины, «внезапу», «и се», «хляби», «длани», «зри», «лики» и др.). Одическая природа элегии явствует из сличения ее с аналогичным стихотворением Пушкина «Воспоминания о Царском Селе», написанным подобной же строфой (слегка измененной)1[1 Сходство строф не случайно, как не случайны словесные совпадения, вроде следующих: у Батюшкова: " ...скальд гремел на арфе золотой", у Пушкина: "О скальд России вдохновенный... взгреми на арфе золотой"]. В этой «монументальной» элегии душевные излияния поэта облекаются в формы исторических воспоминаний и размышлений о минувшем.
Оба эти стихотворения характерны для тех настроений, которые господствовали в поэзии так называемого «преромантизма» Этим словом принято называть те явления в литературе классицизма, в которых присутствуют некоторые признаки нового направления, получившие полное выражение в романтизме. Таким образом, преромантизм есть явление переходное. В нем еще соблюдены все формы классической поэзии, но одновременно намечается и то, что ведет к романтизму. Это, прежде всего, ясное выражение личного (субъективного) отношения к описываемому, наличие «чувствительности» (у преромантиков – преимущественно мечтательно-меланхолической, иногда слезливой); чувство природы, при этом часто стремление к изображению природы непривычной; изображаемый пейзаж у преромантиков всегда гармонировал с настроениями поэта.
Эта поэзия не только подготовила романтическую, но влилась в нее. Впоследствии, в годы романтической полемики, некоторой частью критики эти произведения относили прямо к разряду романтических. Впрочем, наиболее смелые романтики причисляли их к поэзии классической, так как самый стиль и построение их произведений всецело определились традицией классицизма (напр., выражение «пить вино из синих хрусталей», т. е. из рюмок синего стекла, принадлежит к типичным выражениям классической поэзии). Характерен спор Вяземского с Пушкиным об Озерове, представителе того же оленинского круга, что и Батюшков. Вяземский безоговорочно причислил Озерова к романтикам. Пушкин решительно оспаривал это. В то время как некоторые современники Батюшкова причисляли его к романтикам, Белинский характеризовал его поэзию как «подновленный классицизм» (противопоставляя романтизму Жуковского).
К этому же времени относится послание Дашкову, рисующее впечатление от разоренной Москвы, а также военные романсы Батюшкова, в числе их знаменитый «Гусар».
Написав несколько больших элегий, Батюшков мечтает о поэме, ищет для нее сюжета и проповедует отказ от мелкой эпикурейской лирики. Но ничего в этом роде им не завершено. Единственная повествовательная вещь – мало характерная для него аллегорическая сказочка «Странствователь и домосед». Подобных сказок Батюшков больше уже не писал, но элегий не оставлял… К 1816 г. относятся два главных произведения его в этом жанре: перевод из Мильвуа «Гезиод и Омир соперники» и оригинальное – «Умирающий Тасс». Батюшков в этих элегиях достиг своего расцвета. Любопытно, что именно в это время он переделывает свою раннюю элегию «Мечта».
В эти годы особенно сильно в поэзии Батюшкова звучат мотивы уныния. В частности, тема несчастного поэта особенно его заснимает. Ей посвящена и элегия «Умирающий Тасс». Вместо того, чтобы воспевать тихие наслаждения жизнью, как в ранних стихах, Батюшков явно поддается чувству неудовлетворенности. Тоска по родной стране явилась темой ряда стихотворений («Гусар», «Пленный», «Тень друга», «Воспоминания»). Унылые темы разлуки, смерти овладевают поэтом:
|
Нет, нет, себя не узнаю
Под новым бременем печали! |
«Нет, нет, мне бремя жизнь», – восклицает он. Поэта мучают сомнения, на которые рассудок не дает ответа; этого ответа он ждет от «сердца», но и в нем господствует уныние. Однако во всех его стихотворениях присутствует неутолимое желание найти выход и твердая надежда на то, что этот выход будет найден. Стихи приобретают философский характер, язык поэта достиг большой точности и выразительности.
Этими свойствами в высшей степени обладают стихи последнего периода. Они отличаются от предшествующих тем, что Батюшков уже не пишет «монументальных» элегий, предпочитая сжатую форму коротких лирических размышлений и изречений, облеченных в поэтические образы. Такова серия стихотворений из греческой антологии, переведенных для брошюры С. С. Уварова еще до отъезда в Италию, а затем ряд элегических отрывков («Подражания древним»), написанных в Шафгаузене в июне 1821 г. Это последнее произведение поэта. «Изречение Мельхиседека», замыкающее его творчество, относится к тому же роду. Лирические мысли, изложенные на протяжении шести-восьми строк, – таковы последние стихи Батюшкова. Характерно, что не он один писал подобные вещи. В эти годы многие увлекались подобного рода короткими лирическими картинами, в которых соединялась античная строгость и пластика с выражением чувств, характерных для человека нового времени. Сюда относятся и южные «подражания древним» А. Пушкина, писанные им или в Крыму, или в результате крымских впечатлений в 1820 и 1821 гг.
Батюшков был последний русский поэт, творчество которого четко распределяется по лирическим жанрам. Но уже и его лирика перерастает жесткие рамки классических жанров. По-видимому, вместе с Гнедичем им создана схема «Опытов», поделенных на три части: элегия, послания, смесь. Последняя часть для Батюшкова действительно была только «смесью»: здесь соединены случайные произведения самого различного характера, иногда не типичные для его творчества басни, фрагменты переводных поэм, романсы, сказки, эпиграммы. Существенными являются два первых отдела. Что касается «посланий», то у Батюшкова они почти все написаны в том же роде, что и его «Пенаты»: это дружеские послания шутливого характера. Подобные послания хотя и вызывали подражания, но дальнейшего развития не получили; послания поэтов, писавших после Батюшкова, принадлежат по большей части к иным разновидностям посланий и довольно скоро вообще отмирают в поэзии. Более жизнеспособным жанром была элегия. Если внимательно просмотреть состав отдела элегий в «Опытах» Батюшкова, то сразу явствует разнообразие входящих в него произведений. Это не элегии Парни и его подражателей, где первая элегия открывает цепь подобных ей и как бы составляющих с ней одно целое. Здесь каждая новая элегия в каком-то отношении отличается от предыдущей. Ясно, что стихотворения, вошедшие в отдел элегий, уже перерастают рамки твердого жанра.
По схеме «Опытов» Батюшкова построены были первые сборники стихотворений Пушкина (1826) и Баратынского (1827). Но это были последние сборники с подобным жанровым распределением. Развитие русской лирики шло неудержимо к разрушению жанровых границ, и в дальнейшем тот круг произведений, который Батюшков называл элегиями, развился в «лирику вообще».
Заслугой Батюшкова и особенностью его поэзии является его работа над поэтическим языком. Вопрос о языке в сознании писателей начала XIX века был вопросом большого культурного значения. Излагая свои литературные убеждения и разъясняя смысл своей деятельности, Батюшков во вступительной речи в «Московском обществе любителей русской словесности» говорил: «Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу; Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства –возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностью и людскостию». Язык современной ему литературы Батюшков считал недостаточно обработанным: «язык русский громкий, сильный и выразительный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающие даже под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением». Задачи преобразования языка Батюшков возлагал на легкую поэзию, от нее он требовал совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности. «Красивость в слоге здесь нужна, необходима и ничем замениться не может».
В письмах Батюшкова встречаются очень резкие отзывы о современном ему языке русской поэзии. Источник этого раздражения заключался в том, что, по мнению Батюшкова, русские поэты не извлекали из русского языка всех возможностей, и наступила пора преобразовать так язык поэзии, чтобы добиться всей доступной слову гармонии. Нападая на современный ему русский литературный язык, Батюшков на деле с необычайной любовью и упорством стремился к развитию своего языка и к освобождению его от всяческих цепей, ограничивающих его выразительность.
Батюшков ставил себе в качестве идеала задачу достигнуть б звуках русского языка предельной музыкальности. Современники воспринимали его стих как особенно «сладостный», плавный. Плетнев писал в 1824 году: «Батюшков стоит на особенном, но равно прекрасном поприще (по сравнению с Жуковским). Он создал для нас ту элегию, которая Тибулла и Проперция сделала истолкователями языка граций. У него каждый стих дышит чувством; его гений в сердце. Оно внушило ему свой язык, который нежен и сладок, как чистая любовь. Игривость Парни и задумчивость Мильвуа, выражаемая какими-то итальянскими звуками, дают только понятие об искусстве Батюшкова».
Обратив всё внимание на борьбу с славянизмами и на «сладкозвучие» стиха, Батюшков почти не разрабатывал новых форм, заботясь лишь об усовершенствовании обычных форм стиха. Любимым размером Батюшкова был ямб. Он редко изменял ему ради хорея («Вакханка»), или амфибрахия («Песнь Гаральда», начало стихотворения «Гезиод и Омир», «Радость»; последнее стихотворение без рифм с дактилическими окончаниями). Одно стихотворение написано дактилем («Источник»). Среди ямбов у Батюшкова господствуют четырехстопные и вольные ямбы. Элегии вольного ямба и являются ритмическими формами, характерными для Батюшкова. Он достиг совершенства в смене стихов различной длины в согласия с внутренним движением темы. Вольный ямб Батюшкова может стать наравне с вольным ямбом басен Крылова или комедии Грибоедова, резко отличаясь от них лиричностью тона. Основные строки вольного ямба Батюшкова – шестистопные и четырехстопные. Батюшков любил их правильное чередование. Так написаны «Выздоровление», «К другу», «Есть наслаждение...» По-видимому, вслед за Батюшковым Пушкин применил эту форму в некоторых своих элегиях («Под небом голубым...», «Когда для смертного...», «На холмах Грузии...»).
Для «Умирающего Тасса» Батюшков выбрал особую, никем не употреблявшуюся форму, – сочетание шести- и пятистопных ямбов.
Наконец, в посланиях он часто употреблял трехстопный ямб, вообще характерный для этого рода стихотворений.
В мир мечты и фантазии пытался уйти Батюшков от треволнений жизни. Понадобились грандиозные события Отечественной войны, чтобы раскрыть ему глаза на мир и его жизнь. Но и эти новые настроения не стали содержанием его поэзии. Только к ранним светлым и радостным тонам прибавилась трагическая нота внутренней неудовлетворенности. Вероятно, это ощущение трагичности и безвыходности его пути рано или поздно привело бы поэта к поискам выхода. Так, он мечтал о создании большого эпического произведения, хотя вряд ли на этом пути он нашел бы подлинное разрешение и подлинное содержание своей поэзии. Болезнь оборвала его жизнь в момент наиболее острого ощущения трагизма.
Всё это говорит об ограниченности творчества Батюшкова. Недаром Белинский писал о нем: «Поэзия Батюшкова скользит по жизни, едва цепляясь за нее; содержание ее весьма скудно и бедно. Самая художественность стиха его не достигла полного своего развития... Между превосходнейшими стихами у него встречаются негладкие и даже непоэтические; сверх того, верный преданиям русской поэзии и примеру отца ее Ломоносова, Батюшков очень и очень не чужд риторики».
И, однако, мы были бы неправы, ограничившись только указанием на бедность содержания поэзии Батюшкова. Хотя и на ограниченном поле, художественным инстинктом, поэтическим чутьем Батюшков отразил в своей поэзии те новые стремления и чувства, которые ставят его рядом с Жуковским, как поэта, определившего перелом в общем направлении нашей поэзии и подготовившего путь к такому яркому явлению, каким был Пушкин. Мы видели школу Батюшкова. Ей он был обязан своим мастерством, но вместе с тем и своей ограниченностью. Сила Батюшкова чувствуется тогда, когда он преодолевает эту школу и проявляет свой оригинальный и незаурядный талант, Белинский очень часто сопоставляет имена Жуковского и Батюшкова, признавая, что первый был и крупнее и содержательнее. И вместе с тем, Батюшков вовсе не является только спутником Жуковского, он вовсе не повторяет его, и в некоторых отношениях он нам интереснее Жуковского.
«Нельзя сказать, чтоб поэзия его была лишена всякого содержания, не говоря уже о том, что она имеет свой совершенно самобытный характер; но Батюшков как будто не сознавал своего призвания и не старался быть ему верным», – так определял роль Батюшкова Белинский.
В чем же этот инстинкт поэта, его «самобытность»? Белинский раскрывал это в сопоставлении именно с Жуковским: «Если неопределенность и туманность составляют отличительный характер романтизма в духе средних веков, – то Батюшков столько же классик, сколько Жуковский романтик: ибо определенность и ясность – первые и главные свойства его поэзии».
И эти именно черты поэзии Батюшкова приобретают свое значение в свете дальнейших судеб русской литературы.
Постепенное разрушение феодального уклада еще в середине XVIII века вызвало к жизни новое направление в литературе и новые мотивы. Появилась поэзия «чувства», защита прав «души человека» на свободное проявление, вне тех рамок, какими было ограничено поведение человека в строго регламентированном абсолютистском феодально-дворянском государстве. То, что робко проявлялось в низовой литературе XVIII в., то на пороге нового века получило законченное выражение в творчестве Карамзина. Носителями этого нового направления у нас в России были преимущественно представители падающего, разорявшегося дворянства. Но не все понимали гражданское, освободительное значение новых идей. Сознательная борьба с отживавшим строем была уделом немногих. Голос Радищева был услышан много позднее времени его деятельности. Другие замыкались от враждебной действительности в личную жизнь, в поэзию мечты. В этом, может быть, заключался бессознательный протест против гражданских форм самодержавного государства. Но здесь была опасность уйти от жизни в заоблачные сферы мистических настроений. Этого не избежал Жуковский.
И когда перед прогрессивными кругами русского общества всё яснее вставали задачи гражданской борьбы, поэзия Жуковского, учителя целого поколения поэтов, вдруг стала, ощущаться как чуждая, приглушающая чувство жизни и волю к борьбе. Если рассматривать это в пределах литературных понятий, то и Жуковский и Батюшков были предшественниками нового направления, получившего название романтизма. Вождем русского романтизма явился Пушкин. Но романтизм 20-х годов был переходным периодом к реализму, сменившему романтизм в 30-х годах в творчестве самого Пушкина (начиная с «Евгения Онегина») и его ближайших последователей.
Вот почему так важно было, чтобы школа, которую прошли русские романтики (а это были, помимо Пушкина, и все поэты-декабристы), не отвращала их от жизни, не уводила в неопределенную «туманную даль».
И вот в этом-то отношении школа Батюшкова была выше школы Жуковского. Правда, влияние его было гораздо уже влияния Жуковского. Белинский писал: «Батюшков не имел почти никакого влияния на общество, пользуясь великим уважением только со стороны записных словесников своего времени». Это, с одной стороны, освобождает нас от необходимости останавливаться на тех сторонах его творчества, которые выходят за пределы интересов «записных словесников»; но, с другой стороны, мы не должны забывать, что среди этих записных словесников был Пушкин, еще на лицейской скамье зачитывавшийся стихами Батюшкова.
Пластическая форма стихов Батюшкова отражала ощущение реальных наслаждений жизни, и это было чувство земное, приковывавшее к живой жизни, а не уводившее в мистическую даль. Белинский возводил это реальное начало в творчестве Батюшкова к его увлечению мотивами античного мира. Но он же был принужден сознаться, что Батюшков не так уж часто обращался к поэзии древних, а антологические пьесы, в которых чувство античного мира сильнее всего, относятся к последним годам его поэтической жизни, да и переведены они с французского. Конечно, это ощущение жизни было у Батюшкова неподдельным, ему лично присущим. Белинский писал: «Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется в словах, не кружится на одной ноге вокруг самого себя, но движется, растет само из себя, подобно растению, которое, проглянув из земли стебельком, является пышным цветком, дающим плод».
Отсюда и та реформа в поэтическом языке, которую произвел Батюшков. Он показал путь к преодолению книжных риторических формул, господствовавших в поэзии XVIII века, формул, от которых не освободил поэзию и такой исключительно одаренный поэт, каким был Державин. Вместо тяжеловесных торжественных оборотов, изображавших возвышенное «парение», Батюшков нашел слова, которые были восприняты современниками как «язык сердца».
Так понималось творчество Батюшкова и его младшими современниками. Бестужев, выражавший в своих критических статьях мнение поэтов-декабристов, писал о Батюшкове: «С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа нашей поэзии. Оба они постигли тайну величественного гармонического языка русского; оба покинули старинное право ломать смысл, рубить слова для меры и низать полубогатые рифмы». Достоинство поэзии Батюшкова Бестужев видит в том, что «он славит наслаждение жизни. Томная нега и страстное упоение любви попеременно одушевляют его, и, как электричество, сообщаются душе читателя. Неодолимое волшебство гармонии, игривость слога и выбор счастливых выражений довершают его победу» («Взгляд на старую и новую словесность в России»).
Подводя итоги, Белинский писал: «Бросая общий взгляд на поэтическую деятельность Батюшкова, мы видим, что его талант был гораздо выше того, что сделано им, и что во всех его произведениях есть какая-то недоконченность, неровность, незрелость. С превосходнейшими стихами мешаются у него иногда стихи старинной фактуры, лучшие пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаических и растянутых мест».
И, тем не менее, нельзя отрицать, что Батюшков пришел в нужное время и сумел сказать, хотя и неполно, нужное слово.
Своевременность поэтической деятельности Батюшкова лучше всего доказывается усвоением его поэзии младшими его современниками. Элегия Батюшкова была ими подхвачена, разработана и развита. Непрерывная преемственность связывает Батюшкова с Пушкиным. Именно Пушкин осуществил и довершил то, что начал и не докончил Батюшков. Не случайным является то внимание, с которым следил за молодым Пушкиным Батюшков. Еще в 1815 году они познакомились, и Батюшков пытался отвратить Пушкина от слишком сильного увлечения мотивами эпикурейства, внушенными его же собственными стихами. То, что не могли сделать советы Батюшкова (Пушкин решил «остаться при своем»), то совершилось впоследствии само собой. Уже в 1818 году Батюшков почувствовал в Пушкине большого поэте и заметил в нем «чуткое ухо»; по-видимому, это свидетельствует, что в требованиях к благозвучию стиха и вкусы их сходствовали. Особенно интересует Батюшкова судьба поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». С 1818 г. он следит за ее созданием и из Италии пишет в 1819 году: «Просите Пушкина именем Ариоста выслать мне свою поэму, исполненную красот и надежды, если он возлюбит славу паче рассеяния».
В первые годы пребывания Пушкина в лицее Батюшков был его любимым поэтом. Его он считал образцовым поэтом и стремился подражать ему в своих первых стихотворениях.
Пушкин воспринял от Батюшкова искусство благозвучного стиха и точной поэтической речи. Правда, уже в первых своих опытах он пошел дальше своего учителя. У мальчика Пушкина язык поэзии отличается большей точностью, образы большей предметностью, в смешения обветшалых мифологических иносказаний с предметами окружающей действительности соблюдено большее чувство меры. Но если сравнить поэзию Батюшкова, с поэзией его предшественников, то станет ясным, что Пушкин двигался по пути, уже указанному Батюшковым, и в первых опытах ушел от него не так далеко.
Приблизительно с 1816 г. Пушкин начал отходить от эпикурейских тем своего раннего творчества. Он стал писать «унылые» элегии. Вместе с тем он стал освобождаться от поглощающего влияния Батюшкова. Ведь в области меланхолической поэзии Батюшков мог явиться для Пушкина не меньшим образцом, чем в поэзии жизнерадостной. Однако точек соприкосновения между пессимистической поэзией Батюшкова этих лет и элегиями Пушкина уже не так много. Его жалобы на любовные страдания и увядающую юность лишены того чувства отчаяния и сознания трагической обреченности, которое присутствует в последних стихах Батюшкова. Перед Пушкиным открывался широкий путь в жизнь. Поэзия Батюшкова заводила в тупик. И в области поэтического языка Батюшков в эти годы является не единственным учителем Пушкина. Так, по его собственным словам, во многих отношениях он являлся, учеником Жуковского. Мало того, Пушкин обращается к образцам, далеким одинаково и от Батюшкова и от Жуковского, постепенно обретая свой собственный богатый голос и находя в себе самом новые силы, избавляющие его от необходимости подражать кому бы то ни было. Он сознает себя не учеником, а соперником Батюшкова и Жуковского.
По окончании лицея, в период создания «Руслана и Людмилы», Пушкин чувствует себя уже свободным от учительства Батюшкова. К 1817 г. относится пять замечаний Пушкина на принадлежавшем ему экземпляре «Опытов». В этих критических замечаниях он уже отделяет ценное от слабого и свободно высказывает свое мнение о поэте, которого не перестает любить.
Так, о сказке «Странствователь и домосед» Пушкин писал: «Плана никакого нет, целя не видно – всё вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.» В прославленной элегии «Умирающий Тасс» он находит «добродушное историческое, но вовсе не поэтическое».
Это отзыв особенно характерен. «Умирающий Тасс» было последнее и самое крупное стихотворение Батюшкова. И автор и читателя считали его совершеннейшим произведением поэта, увенчавшим его сборник, вершиной его творчества. И вот это-то прославленное стихотворение Пушкин при самом его появлении встретил ироническим отзывом. Пути Пушкина и Батюшкова расходились. Впоследствии Пушкин так характеризовал эти стихи: «Эта элегия, конечно, ниже своей славы». «Сравните Сетования Тасса поэта Байрона с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью, а здесь кроме славолюбия и добродушия ничего не видно. Это – умирающий Василий Львович1 [1 Т. е. Б. Л. Пушкин – дядя], а не Торквато». Лучшим стихотворением Батюшкова Пушкин называл «Переход через Рейн», а «Беседка муз» вызвала восклицание «Прелесть!»
В дальнейшем Пушкин продолжал стремиться к той «гармонической точности, отличительной черте школы, основанной Жуковским и Батюшковым» (отзыв о «Карелии» 1830 г.), и, следовательно, причислял себя к той же школе, но уже, конечно, не в качестве ученика. Поэзия Батюшкова всё более отходила в прошлое.
Наиболее значительным вкладом Батюшкова в русскую литературу было создание русской элегии. Именно элегия была в центре внимания русских поэтов около 1820 года. Первое место в рядах молодых поэтов занимали элегики, стремившиеся передать в стихах всё разнообразие душевных переживаний человеческой личности. Но к этому времени элегии Батюшкова с их ограниченным психологическим и тематическим содержанием уже не могли удовлетворять читателя. Появились новые поэты – романтики, сумевшие полнее отразить чувства и мысли, волновавшие современного им человека. Именно в это время появляется Баратынский. Пушкин с восторгом приветствовал его. «Каков Баратынский? признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова, если впредь зашагает, как шагал до сих пор».
Развитие элегии в начале 20-х годов показало, что Батюшков сделал на этом пути лишь первые шаги. В 1825 году, когда Батюшков уже закончил свой творческий путь, Пушкин писал о нем Рылееву: «Что касается Батюшкова, уважим в нем несчастия и несозревшие надежды». В это время Пушкин осознал уже не только неполноту элегий Батюшкова, но и ограниченность всего элегического направления в русской поэзии. В эти годы он и Баратынский уже искали новых путей в поэзии за пределами романтической элегии. Они уже иными глазами смотрели на кумиров вчерашнего дня, уважая в них только прошлое, тот вчерашний день, без которого не наступил бы новый день в поэзии, но который уже не вернется. Чувства и мысли Батюшкова казались наивными и устарелыми. Оставалась одна гармония стиха и «роскошь» поэтического воображения.
В 1830 г., или около этого времени, Пушкин, внимательно перечитывая «Опыты» Батюшкова, нанес на поля книги много замечаний. На этот раз замечания были довольно жестоки. Пушкин отмечал слабые рифмы, вялые обороты, слабые выражения, «пошлые и растянутые сравнения». Так, стихотворение «Мечта» вызвало замечание: «Писано в молодости поэта. Самое слабое из всех стихотворений Б.» Отдельные стихи вызывали пометки: «детские стихи», «слабо», «дурно», и даже «какая дрянь».
И, однако, судя Батюшкова со всей строгостью, Пушкин нашел в «Опытах» много прекрасных стихов. Так, элегия «Таврида» вызвала замечание: «По чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения – лучшая элегия Батюшкова». «К другу» – «Сильное, полное и блистательное стихотворение». «Мои пенаты» – «Это стихотворение дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения – слог так и трепещет, так и льется – гармония очаровательна».
Многие отдельные стихи сопровождены пометками: «прекрасно», «прелесть», «прелесть и совершенство – какая гармония», «живо, прекрасно».
Таким образом, какая-то доля обаяния от поэзии Батюшкова осталась у Пушкина на всю жизнь. Это подтверждается хотя бы и тем, что до конца жизни Пушкина в его стихах проскальзывают явные или скрытые цитаты из элегий Батюшкова. И в самом деле, некоторое сродство дарования Батюшкова и Пушкина сохранилось на протяжении всего творческого пути Пушкина. Недаром Белинский утверждал, что «влияние Батюшкова на Пушкина виднее, чем влияние Жуковского. Это влияние особенно заметно в стихе, столь артистическом и художественном: не имея Батюшкова своим предшественником, Пушкин едва ли бы мог выработать себе такой стих». «Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобы имя его произносилось в истории русской литературы с любовью и уважением».
Источник: Томашевский Б. К. Н. Батюшков : [вступит.ст.] / Б. К. Томашевский // Батюшков К. Стихотворения. – М., 1948. – С. V–LV.
|