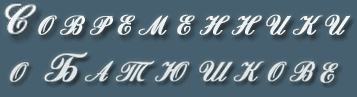Титульный
лист |
А. С. Пушкин. Рано ушедший из литературной жизни, Батюшков оставил глубокий след в лирической манере Пушкина лицейских лет. – Послание пятнадцатилетнего поэта Батюшкову звучит почти как подражание, равное по духу и слогу оригиналу. – Батюшков – преемник и продолжатель в элегической лирике «сластолюбивой» поэзии XVIII века, «российский Парни». – В откровенных пушкинских заметках на полях стихов Батюшкова он «чудотворец» поэзии, но бывает и автором «тощих» элегий. Философ резвый и пиит, К Батюшкову. 1814. I, 64, 66 |
|
Из заметок на полях «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова Вот стихи прелестные, собственно Батюшкова – вся строфа прекрасна. (...) Прекрасно. (...) Живо, прекрасно. Вообще мысли пошлые, и стихи не довольно живы. Последние стихи славны своей гармонией. Не под серпом, а под косою. Ландыш растет в лугах и рощах – не на пашнях засеянных. И у Парни это место дурно, у Батюшкова хуже. Любовь не изъясняется пошлыми и растянутыми сравнениями. Прелесть и совершенство – какая гармония! По чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения – лучшая элегия Батюшкова. Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков. Сильное, полное и блистательное стихотворение. Писано в молодости поэта. Самое слабое из всех стихотворений Батюшкова. Главный порок в сем прелестном послании – есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни. (...) Стихи прекрасные, но опять то же противуречие. (...) Это стихотворение дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения – слог так и трепещет, так и льется – гармония очаровательна. Прекрасно, достойно блестящих и небрежных шалостей французского остроумия, – и везде язык поэзии. Смело и счастливо. (...) Лучшее стихотворение поэта – сильнейшее и более всех обдуманное. Эта элегия, конечно, ниже своей славы, (...) сравните «Сетования Тасса» поэта Байрона с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия, (...) ничего не видно. Это – умирающий Василий Львович, а не Торквато. |
|