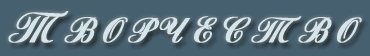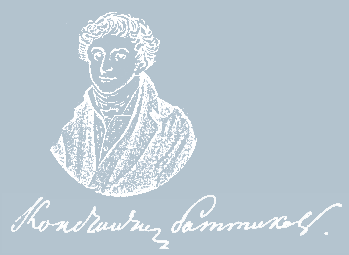
Титульный
лист |
А. А. Новикова
Глубокий знаток и ценитель древности Константин Николаевич Батюшков (1789–1855), которого Пушкин считал одним из своих учителей в поэзии, органично усвоил достижения античной культуры, сделав их «своим сокровищем», что и нашло воплощение в поэтике его стихотворений. Кажется, что в лирике Батюшкова собрались все древние боги и богини и все сопровождающие их мифологические существа, герои легендарной истории и античные авторы. Древность получала новую жизнь не только в сочинениях, но и в самой судьбе и личности поэта, который в литературном обществе «Арзамас» был наречен Ахиллом. Всерьез так называли его друзья-литераторы за любовь к античности, а в шутку – за хрупкое телосложение («Ах, хил!»). |
||||||||||
|
Современные исследователи уже без тени иронии уподобляют русского поэта начала XIX века Константина Батюшкова древнегреческому воину Ахиллу, воспетому Гомером. Такое уподобление вполне правомерно, потому что российский поэт также совершил свои великие подвиги – «подвиги творческого воображения», для которых потребовалось «величайшее напряжение духовных сил» [1] [Шаталов С.Е. Поэзия К.Н. Батюшкова // Ахилл, или Жизнь Батюшкова. – М., 1987.– С. 234-235.]. Батюшков-«Ахилл» также заслуженно имел в кругу друзей и читателей другие славные имена: «маленький Овидий», «новый Тибулл». Он делал вольные переводы своих любимых авторов, совершенствуя русскую «легкую поэзию», переплавляя «звуки италианские» в новаторский «забавный русской слог». Батюшкова восхищала любовная античная поэзия – «эротическая муза Катулла, Тибулла, Проперция» [2] [Батюшков К.Н. Избранная проза.– М, 1987. – С. 210. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием литеры П и номера страницы.]. В «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» он утверждал общечеловеческое и вечное (вне времени и пространственных границ) значение этой поэзии: «у всех народов, и древних, и новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному» (П, 209). Такова идейно-эстетическая позиция Батюшкова, которая определяла поэтику и стилистику его творчества. Вслед за классицистом Кантемиром, которого поэт ценил очень высоко, Батюшков мог бы сказать: я «с вами, греки и латины...». О его полной погруженности в древнюю поэзию свидетельствует весьма необычное словообразование. Так, например, в письме Гнедичу от 7 ноября 1811 года читаем: «Я тибуллю...» [3] [Батюшков К.Н. Стихотворения.– М., 1987. – С. 280. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.]. Глагол, изобретенный Батюшковым, – «тибуллить» – выразительный знак увлеченности, очарованности античным источником, который влияет не только на литературные пристрастия, но уже и на сам образ жизни поэта. Этот окказионализм сродни словотворчеству влюбленного в Наталью Гончарову Пушкина, сотворившего к «очарован» рифму «огончарован». «Тибулл, задумчивый и нежный Тибулл» – так называл Батюшков своего любимого древнеримского автора. Собственная поэтическая личность русского поэта оживала в вольных переводах тибулловых элегий. Здесь затронуты почти все основные темы и мотивы поэзии Батюшкова: гимн земной жизни, радости, любви и красоте, тема дома, родного очага, противопоставление войны и мира, философская тема соотнесенности жизни и смерти. Всю художественную ткань этих элегий пронизывает обращение к богам, заклинание высших сил, судьбы. Эта древняя языческая форма под пером поэта становится глубоко личной, лирической. В ней особенно ощутимы осердеченность лирики, надежда на спасение от бед, в котором так нуждался Батюшков: «Богиня грозная! Спаси его от бед...» (35); «Но ты, держащий гром и молнию в руках! / Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен...» (36); «О боги! сей удар вы мимо пронесите, / Вы, Лары отчески, от гибели спасите!» (51). Божеством для Батюшкова-поэта является также мир как антитеза войны: «Сын неба! Светлый Мир!.. / Ты благодать свою на нивы проливаешь / И в отческий сосуд, наследие сынов, / Лиёшь багряный сок из Вакховых даров» (52). Поэт несколько раз воспроизводит художественный образ «веселых чаш с вином», «чаши круговой». Он желал бы видеть только этот «багряный сок» виноградных гроздьев, вобравший тепло солнечного света и мирного труда (в сказке Батюшкова «Странствователь и домосед» встречается замечательный образ – «румяное вино»), в противовес зловещим красным брызгам крови на полях битвы – «Марсовых полях». Вино, веселье, любовь – все эти «брызги» наслаждения жизнью в лирике Батюшкова рассыпаются искрящимся фонтаном, переливаются через край символической «полной чаши». В письме Е.Г. Пушкиной поэт признавался, что он «настежь отворяет двери всем страстям, всем желаниям» [4] [Батюшков К.Н. Соч.: В 3 т.– СПб., 1885-1887.– Т. 3.– С. 230.]. Образы любовной лирики Батюшкова необыкновенно ярки, конкретны, пластичны. Поразительное свойство батюшковской лирики в том, что рядом с упоением чувственными наслаждениями соседствует огромный запас целомудрия и чистоты, душевной и телесной. Любимая лирического героя – «дева невинная», «дева стыдливая», «дева чистая». «Слезы стыдливости» равносильны «улыбкам» и «песням веселия» («Радость»). При всей конкретике поэтическую образность «жреца Киприды» отличает утонченность, изящество, изысканность. В «Элегии из Тибулла» возлюбленная представлена чуть ли не наравне с богами, ее окружают не только приметы земной цветущей природы, но и образы небесные, космические. Так любовь земная освящается, поднимается до вселенских, божественных высот:
«Распущенные волосы» в лирике Батюшкова – один из выразительнейших знаков женственности, романтичности женского образа: «Я помню локоны златые / Небрежно вьющихся власов» («Мой Гений»), «Летающий зефир власы твои развеет» («Таврида»), «И кудри распущенны / Взвевают по плечам» («Мои пенаты»), «Власы свои душисты / Раскинув по плечам, / Прелестницы младые...» («Мечта»), «венок на волосах каштановых», «От каштановых волос / Тонкий запах светлых роз» («Привидение»), Не отсюда ли – прелестные образы русской любовной лирики: «Кудри девы-чародейки, / Кудри – блеск и аромат, / Кудри – кольца, кудри – змейки, / Кудри – шелковый каскад» – в стихах Владимира Бенедиктова или во вдохновившем Тургенева на создание его лирического шедевра в прозе стихотворении Ивана Мятлева «Как хороши, как свежи были розы...»:
И напротив – волосы неприбранные в лирике Батюшкова – знак скорби, бедствий и даже смерти: «...и бледны Эвмениды / Всех ужасов войны открыли мрачны виды: / <...> власы растрепанны и ризы обагренны» («К Тассу»). В зловещих картинах «внутри земли, во пропастях ужасных» у Батюшкова собраны чуть ли не все античные обитатели Аида: «Мегера страшная и Тизифона там / С челом, опутанным шипящими змеями», «ужасный Энкелад и Тифий преогромный», «хищный Иксион, окованный змеей», и другие подобные им мифологические существа. Всем этим мрачным образам смерти контрастно противопоставлены картины жизни – яркой, солнечной, благодатной. Молоко и мед – среди излюбленных в поэтике Батюшкова устойчивых знаков-образов этой благодати и живительной земной силы: «Мед капал из дубов янтарною слезою. / В сосуды молоко обильною струёю / Лилося из сосцов питающих овец...» (35). Это основные приношения человека богам. В «Тибулловой элегии X» в дар «священному лику домашнего Пената» «девы красные» приносят «из улья чистый мед», «сот меда с молоком – и Майн сын (Гермес. – А.Н.) / Тебе навеки благосклонен!» («Из антологии»). К жертвеннику Муз приносит эти дары и сам лирический герой Батюшкова: «Спешу принесть цветы, и ульев сот янтарный, / И нежны первенцы полей; / Да будет сладок им сей дар любви моей / И гимн поэта благодарный!» («Беседка муз»). Как и в других творениях Батюшкова, земной мир в «Элегии из Тибулла» сверкает всеми переливами прозрачных красок: теплыми («янтарная слеза»), прохладными («в лазоревых морях», «в тени зеленой»), нежными («на розовых конях». Этот необычный поэтический образ: «Проскакал на розовом коне» – отзовется в лирике Есенина), ослепительно-яркими («с сидонским багрецом и золотом бесценным» – эти краски напоминают пушкинские «в багрец и золото одетые леса»). Полнота и красота мирной жизни в вольных переводах из Тибулла противостоят войне и смерти. Важно подчеркнуть, что в систему ценностей земной жизни у Батюшкова органично входит образ родины, родной земли, отечества. Вот как звучат заклинания лирического героя: «Отдай, богиня, мне родимые поля, / Отдай знакомый шум домашнего ручья...» (35); «О боги, если б я / Узрел еще мои родительски поля!» (52). Родина и домашние боги – последний якорь спасения: «Вы, Лары отчески, от гибели спасите! <...> / Спасите ж вы меня, отеческие боги, / От копий, от мечей!» (51). Эти лирические переживания, очень близкие самому Батюшкову, оторванному войнами от родины и от дома, нашли отзвуки также в его переписке. Удивительно, насколько античные литературные источники оказались приближенными к обстоятельствам жизни русского поэта начала XIX столетия. Например, в «Тибулловой элегии XI» образы легендарной мифологии соседствуют с бытовыми деталями, напоминающими о «пенатах» Батюшкова: «Когда на пиршествах стоял сосуд святой / Из буковой коры меж утвари простой». В стихотворении «Мои пенаты» читаем: «Всё утвари простые, / Всё рухлая скудель!» В вольном переводе элегии из Тибулла, на первый взгляд неожиданно, возникают образы русской природы, русской зимы и даже приметы простонародного русского быта: «При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной, / Подруга в темну ночь зажжет светильник ясный / И, тихо вретено кружа в руке своей, / Расскажет повести и были старых дней». Созвучие без труда обнаруживается в лирической атмосфере исконно русских пушкинских мотивов «Зимний вечер», «Няне». Известно, что в Италии, среди ее экзотической природы Батюшков грустил о глубоких русских снегах. В письме А.Н.Оленину поэт восхищался умением адресата «в снегах Отечества лелеять зыбку муз» (294). «Пленный» – лирический герой Батюшкова – просит вернуть ему «край отцов, / Отчизны вьюги, непогоду, / На родине мой кров, / Покрытый в зиму ярким снегом» (68). Так русские пейзажные приметы включаются «новым Тибуллом»– Батюшковым в строй представлений о прекрасной, совершенной жизни. П.А. Плетнев в стихотворении «К портрету Батюшкова» был совершенно прав, замечая о «потомке древнего Анакреона»: «Ни вьюги, ни снега, ни жмущий воды лед / Не охладили в нем воображенья...» [6] [Цит. по: Кошелев В.А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. – М., 1987.-С. 21.]. «Культ мечты» – один из главных в поэзии Батюшкова с ее романтическими устремлениями. С мечтами поэта о прекрасной жизни, по наблюдениям И.Н. Розанова, «вполне гармонировали» «мечты о красивой смерти» [7] [Розанов И.Н. Русская лирика.– М., 1914.– С. 253.], за которой последует воскресение в новую жизнь. Батюшков создает потрясающей силы и глубины образ смерти-воскрешения, которого удостаиваются только любящие сердца. Так выстраивается философско-символическое кольцо: любовь – смерть – воскрешение – любовь, которая «мертвит и оживляет» («Разлука»), соединяет начала и концы:
Загробный Элизий – обиталище блаженных душ – под пером Батюшкова не выглядит эфемерным жилищем бесплотных духов и привидений. Воплощающий земную мечту о прекрасном, он очень живой, открытый для восприятия всем человеческим чувствам. Познавать мир герою Батюшкова помогают зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощущения. Так, Элизий «расцветает», «напоен благоуханьем», «там слышно пенье птиц и шум биющих вод», здесь пьют «из чаши сладкий мед». Особо увенчаны здесь те, кого «неуловимый рок» «постиг в минуту упоенья, / В объятиях любви...» (36). На их «челе из свежих мирт венок». Поэтому героя не страшит конец земного пути: «Так я, любовью упоенный, / Усну <...> при шуме сладком лир» («На крыльях улетают годы...») (169); «Без страха двери сам для Парки отопру, / Беспечно век прожив, спокойно и умру» («Сон могольца»). В Элизий помещает Батюшков особо чтимого им «нежного певца» Горация. В надписи «К цветам нашего Горация» древний поэт назван «богом лиры, богом любви». В «Подражании Горацию» Батюшков создает свой вариант стихотворного «Памятника» (впоследствии эту античную традицию блистательно продолжил Пушкин, который «Памятник себе воздвиг нерукотворный»), где утверждается царственность, божественное происхождение поэтической лиры: «Я сам на Пинде царь! / Венера мне сестра» (221). К творчеству и судьбе Горация Батюшков обращался и в своих прозаических опытах. В «Вечере у Кантемира» подчеркивается «страсть к древним писателям» видного русского классициста, который «только ощупью и с Горацием в руках» пытался отыскать истину. В «Заметках о Горации» Батюшков размышлял о личности и судьбе «счастливейшего из всех стихотворцев». Самому автору «Заметок» очень близка мысль «мудреца» и «тонкого философа» Горация о том, «что человек не может быть совершенно счастлив, что сердце наше есть источник вечных желаний». Этот тезис во многих стихах русского поэта нашел воплощение в афористических формулах: «Как счастье медленно приходит, / Как скоро прочь от нас летит» («Элегия»), «Но радость наша – ложь, но счастие– крылато» («К Тассу»); «А счастие лишь там живет, / Где нас, безумных, нет» («Послание к Н.И. Гнедичу»). Батюшков был солидарен с И. М. Муравьевым-Апостолом, который признавался в том, «что не выпускает Горация из рук, что учение сего стихотворца может заменить целый век опытности, что он всякий день более и более открывает в нем не только поэтических красот, но истин глубоких и утешительных» (П, 248). «Гораций никогда не хотел продать свою вольность за золото. Он отказался от почестей, страшился забот, любил уединение» (П, 248) – это становится личной и творческой позицией самого Батюшкова. Многочисленные подтверждения – в его судьбе, в письмах, стихах: «Но я и счастлив, и богат, / Когда снискал себе свободу и спокойство, / А от сует ушел забвения тропой!» («Мечта»). Обращаясь к Гнедичу, Батюшков говорит и о себе: «ты не хотел потерять свободы и предпочел нищету и Гомера» (П, 158). «Песней царь», Гомер постоянно занимал творческое сознание русского поэта: «Омер и книги священные говорят о протекшем. На них основана опытность человеческая. Вечные кладези, откуда мы черпаем истины утешительные или печальные!» (П, 118). Батюшков ощущал параллель между трагической судьбой «царя духа» Гомера и его героев со своей собственной участью: «Вот моя Одиссея, поистине Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному» (П, 303). Древнегреческие образы переосмыслены Батюшковым в романтическом и автобиографическом планах. Здесь очень много лирического, лично пережитого. В стихотворении «Судьба Одиссея» различимы этапы жизни нашего поэта: его военный опыт («средь ужасов земли и ужасов морей» «стопой бестрепетной сходил в Аида мраки»), его бытовая неустроенность, бесприютность («Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки / Богобоязненный страдалец Одиссей»). В основе композиции произведения – романтическая ситуация: «казалось – оказалось»:
В связи с «божественным даром» Гомера упоминаются почти все олимпийские божества: «твой гений проницал в Олимп: и вечны боги / Отверзли для тебя заоблачны чертоги». Художественная образность элегии представлена в ключе древнегреческой стилистики: «Внемлите, народы, Эллады сыны, / Высокие песни внемлите!»; «Твой глас подобится амврозии небесной, / Что Геба юная сапфирной чашей льет». Появляются сложные и необычно-красивые эпитеты: «коней легконогих по звонким полям» (69), «там скачущих оленей / И златорогих серн» («Мечта»). Удивительный оксюморон, созданный Батюшковым, определяет суть личности и творчества Гомера – незрячего античного классика: «Слепец всевидящий!» Гению уготована трагическая судьба, но в стихотворении «К Тассу» (Тассо – еще один «несчастный счастливец», близкий Батюшкову) поэт слагает своим кумирам восторженный дифирамб: «Но в памяти людей Омер еще живет, / Но человечество певцом еще гордится, / Но мир ему есть храм... И твой не сокрушится!» Античность вдохновила Батюшкова на создание вольных переводов «Из греческой антологии» и лирического цикла «Подражания древним» как продолжения антологических переводов. Знаменательно, что это был последний лирический цикл Батюшкова: так любовь поэта к классическим образцам прошла через все его творчество – от истоков до финала. В «Переводах...» сконцентрированы все излюбленные мотивы и образы батюшковской лирики. Например, любовь – смерть – возрождение: «Киприда и Эрот, мучители сердец! <...> я вяну» (12); «Любовь мне таинство быть счастливым открыла» (11); «Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь!» (10). Здесь снова встречаются приметы женской красоты – «волосы и цветы»: «А вы, цветы, благоухайте / И милой локоны слезами напитайте!» («Свидетели любви и горести моей...») «1-й перевод» – плач о возлюбленной, ставшей «добычей» завистливого Аида, – походит на более раннее создание Батюшкова, по-настоящему классическое по совершенству формы, «Рыдайте, Амуры и нежные Грации...»: «Венера всемощная, дочерь Юпитера! / Услышь моления и жертвы усердные: / Не погуби на тебя столь похожую!» (264). Вполне в духе и стиле классицизма изящное стихотворение «Пафоса бог, Эрот прекрасный...», герой которого «дает красавицам уроки». Очень точно определил своеобразие стихотворной ткани батюшковской лирики Гоголь: «Самый стих <...> исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, которая слышна у южных поэтов новой Европы» [8] [Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т.– М., 1986.– Т. 6.– С 332.]. И все это переплавлялось, как определил сам Батюшков, в «забавный русский слог», в новую поэтическую манеру легкости, непринужденности, прозрачности стиха, в мелодику и музыкальность поэтического русского языка, который у Батюшкова льется столь же свободно и благозвучно, как язык итальянский. «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков», – восторгался им Пушкин. Итальянскому языку Батюшков выучился еще в годы учения в петербургском пансионе итальянца Триполи (1801–1802). Впоследствии в статье «Ариост и Тасс» поэт утверждал: «Учение итальянского языка имеет особенную прелесть. Язык гибкий, звучный, сладостный, язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии» (П, 139–140). В Италию Батюшков был влюблен заочно еще с юности, и чувство его усилилось многократно, когда он прибыл в эту страну в качестве секретаря русской дипломатической миссии. Этот период в жизни поэта подробно освещен в книге итальянской исследовательницы Марины Федерики Варезе-Росси «Батюшков – поэт между Россией и Италией» (Падуя, 1970) [9] [Varese M.F. Batjuskov. Un poeta tra Russia e Italia. – Padova, Liviana Ed., 1970.]. Следует подчеркнуть, что поэтические впечатления Батюшкова об Италии, которыми он делился с друзьями в письмах, характеризуют и личность поэта, и особенности его миропонимания и художественного метода. В душе Батюшкова никогда не погасала «прекрасная страсть к прекрасному» (статья «Чужое: мое сокровище!»). Италия дорога русскому стихотворцу прежде всего как «земля классическая», «Отчизна Горация и Цицерона» (П, 536). «Это библиотека, музей древностей, земля, исполненная прошедшего» (П, 553). В статье «Петрарка» Батюшков говорит о любви к Риму как «древнему отечеству добродетелей и муз». «Полуденные страны были родиною искусства... Музыка, живопись и скульптура любят свое древнее отечество» («Вечер у Кантемира»). Пространное восторженное рассуждение о «прекрасном наследии древности» у римлян и греков находим в работе «Прогулка в Академию художеств». «Земля славы и чудес! Какая земля!» – восклицает Батюшков в письме Уварову из Неаполя в мае 1819 года. Еще ранее – в 1817 году – это восклицание прозвучало в одной из самых знаменитых элегий Батюшкова – по лирической сути автобиографической – элегии «Умирающий Тасс»:
В то же время впечатления от Италии формировали новое романтическое сознание поэта: «земля удивительная, загадка непонятная» (П, 553). Утонченный мечтатель из «земли льдов и снегов», грезивший об экзотических чудесах «полуденных стран», увидел их наяву. Живописные пейзажи батюшковской лирики, напоенные цветом, звуком, благоуханием, повторяются уже в прозе, в письмах из Италии: «Здесь весна в полном цвете: миндальное дерево покрыто цветами, розы отцветают, и апельсины зрелые падают с ветвей на землю, усеянную цветами...» (П, 432). Примерно также представлял себе поэт прекрасный Элизий в «Элегии из Тибулла»: «Туда, где вечный май меж рощей и полей, / Где расцветают нард и кинамона лозы; / И воздух напоён благоуханьем розы...» (36). «Земля сия – рай небесный» (П, 434), – вторит самому себе Батюшков в письме Уварову. Так художественное сознание поэта соединяет в гармонии сферы земного и небесного, античного и романтического. В его «легкой поэзии», какие бы темы она ни затрагивала, воскресают образы античной культуры. Но перед нами – именно «легкая» поэзия. Батюшков отказывается от тяжеловесной манеры мифологизирования жизни, свойственной классицизму. И мифологические отсылки в его стихах – вовсе не штампы поэтического языка. Эта образность отличается большой эмоционально-экспрессивной и смысловой наполненностью и может выполнять самые разнообразные функции, как «высокие», так и «низкие», пародийные. Например, возвеличивая чувство верной дружбы, поэт называет имена легендарных друзей: Тезей и Пирифий, «Атридов сын» (Орест) и Пилад. Лирически выделен «младый Ахилл, великодушный воин. / Бессмертный образец героев и друзей!» («Дружество»), имя которого было столь дорого Батюшкову-«Ахиллу». Устойчивые образы могут указывать на лирическое чувство, например, грусть: «сам Амур в печали / Светильник погасил» (160). И в личной переписке Батюшков часто использует форму заклинания древних богов, с какой мы встречались в его лирике: «Да будет Феб с тобой» («К Ж<уковско>му»). Иногда античные образы иронически переосмысливаются Батюшковым. Блистательные примеры – в знаменитых стихотворениях «Видение на брегах Леты», «Послание к стихам моим», «Певец в "Беседе любителей русского слова"», в эпиграммах. Поэт высоко ценил крупных мастеров классицизма («Вечер у Кантемира», «Разные замечания»), советовал: «Читай Державина, перечитывай Ломоносова, тверди наизусть Богдановича, заглядывай в Крылова» (П, 240), – но был беспощаден к его эпигонам, ядовито высмеивал неумелых литераторов, в том числе и русских дам, возомнивших себя «новыми Сафами». В шутливых мадригалах «Мелине» и «Новой Сафе» поэту удается быть не только насмешливым, но и изящным: «Ты Сафо, я Фаон; об этом и не спорю: / Но, к моему ты горю, / Пути не знаешь к морю». И, конечно же, во всех стихотворениях Батюшкова присутствуют божественные покровители творчества – Музы, «Граций круг», «Аполлон с Парнасскими сестрами». В «Прогулке в Академию художеств» есть значимое в концепции батюшковского творчества замечание о «божественном Аполлоне, прекрасном боге стихотворце»: «Имея столь прекрасного бога покровителем, мудрено ли» не возвыситься самому. Поэт цитирует немецкого историка античного искусства Винкельмана: «взирая на Аполлона, я сам принимаю благороднейшую осанку». Таким образом, обращение к античным источникам не означает у Батюшкова ухода в прошлое, наоборот – это шаг вперед, по пути совершенствования жизни и человека. «Чувства добрые», благородство, «отзывчивое и чуткое сердце» – суть творческого бытия поэта. Он особенно ценит тех, кто «лишь для добра живет и дышит» (из письма А.Н.Оленину) (249). Таков и сам Батюшков, полный сочувствия к людям, понимания, нежности. Как трогателен бывает лирический герой его любовной лирики: «Ты плачешь, Ливия? Но победитель твой, / Смотри! – у ног твоих колена преклоняет» («Тибуллова элегия XI»). Перечитывая Батюшкова, мы никогда не почувствуем себя запертыми в пыльном библиотечном хранилище или в музее древностей среди застывших статуй. Классические образцы воскресают в новом поэтическом бытии. Эта тема возрождения намечена и в первой строке стихотворения о Байе, написанного после посещения руин некогда роскошного древнеримского города: «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» Античные источники помогали Батюшкову добиться классической стройности, четкости и ясности форм его творений. В то же время именно к классическим образцам обратился поэт для того, чтобы выразить свое новое миропонимание, ибо, по словам М.Н.Муравьева, с которым был солидарен Батюшков, «нет ни одной черты величественного и чудесного стихотворства, которая не была бы в сокровищнице древних».
Новикова Алла Анатольевна – Источник: Новикова А. А. «Прелестная роскошь словесности» : античность в творческом сознании К. Н. Батюшкова / А. А. Новикова // Литература в школе. – 2007. – № 10. – С. 2–6. – (Наши духовные ценности). |
|||||||||||