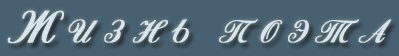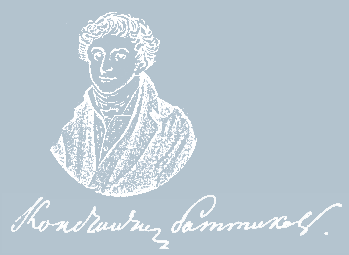
Титульный
лист |
Александр Люсый
Маленькая таврическая философия Свой маленький поэтический таврический миф один из самых трагических русских поэтов Константин Батюшков (1787-1855) создал в качестве одной из фундаментальных основ своей "маленькой философии", удивительно соответствующей масштабам как самого полуострова, так и творимого поэтом образа "внутреннего человека" (с его "внутренним полубогом"). Тот воздушный стиль рококо, миф — как бы противоположный полюс барочным соборно-ментальным художественно-философским построениям поэтического Колумба Крыма Семена Боброва (которого Батюшков неустанно пытался утопить в реке забвения Лете, что и придает его личной драме привкус истинно крымского онтологического возмездия, конечно же, несправедливого, но это ведь и значит "истинно крымского"). |
|
Свою "маленькую философию" Батюшков, поначалу поклонник Монтеня и Вольтера, выработал до войны 1812 года, художественно соединив в ней скептицизм с чувствительностью и эпикурейским гедонизмом. Война, несмотря на ее победоносный характер, была воспринята как необратимая трагедия, в диссонанс со всеобщим энтузиазмом, давшим, в частности, толчок движению декабристов. Ведь под ударами "образованного варварства" разрушилась сама "картина мира". "Москвы нет! — писал Батюшков. — Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук - все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основывать надежды? Чем наслаждаться?.. Ужасные поступки вандалов, или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки беспримерные и в самой истории вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством..." (I, с. 205-210). В боевых действиях поэт принимает участие, подобно средневековым рыцарям, под флагом уже довольно призрачных надежд на личное счастье. Я с именем твоим летел под знамя брани В очерке "Петрарка" (XII глава "Опытов в стихах и прозе") он не случайно отмечает: "Любовь к Лауре и любовь к славе под конец жизни его слились в одно. Любовь к славе, по словам одного русского писателя, есть последняя страсть, занимающая великую душу. Поэмы: Триумф Любви — Непорочности — Смерти — Божества, в которых и самый снисходительный критик найдет множество несообразностей и оскорблений вкуса, заключают однако же в себе неувядаемые красоты слога, выражения и особенно мыслей. В них-то стихотворец описывает все мучения любви, которой мир, как тирану, приносят беспрестанные жертвы" (2, с. 154). Таким образом, преображенная испытаниями "маленькая философия" сплавляет в единое целое безотчетный патриотизм и непременную надежду на земное счастье, полурелигиозную верность избраннице и в то же время экзистенциальное "тираноборчество" (абсолютно лишенное какого-либо политического оттенка), не переходящее во внутренний "тоталитаризм" ("тотальность желания", как выражался Жорж Батай), а давшее урок невиданного межличностного христианского "демократизма. Такое впечатление, что Батюшков чуть-чуть завидует слегка критикуемому им итальянскому предшественнику. "Надежды Петрарки не сбылись. Но любители изящной поэзии знают наизусть прекрасные стихи любовника Лауры, обожателя древнего Рима и древней свободы. Ни любовь, ни мелкие выгоды самолюбия, ни опасность говорить истину в смутные времена междоусобия — ничто не могло ослабить в нем любви к Риму, к древнему отечеству добродетелей и муз, ему драгоценных, ибо ничто не могло потушить любви к изящному и к истине в его сердце" (2, с. 159). Сам же Батюшков делает иной выбор: "Я гривны не дам за то, чтоб быть славным писателем, ниже (даже — А.Л.) Расином, а хочу быть счастлив". И "внутренний полубог" жестоко обманул поэта. ... Однажды, много лет назад, да позволительно будет сделать автору лирическое отступление, в Троице-Сергиевой лавре я приобрел простенькую иконку. "Господь Вседержитель", благословляя зрителей крестным знамением, держал в руках раскрытое Евангелие, на страницах которого можно прочитать: "Заповедь новую даю вам: да любите друг друга (якоже возлюбих вы) да и вы любите". Слабое знание церковнославянского языка привело к такому ошибочному переводу последней части заповеди: "...Если кто полюбил вас, то и вы любите". Разумеется, я понимал, что речь идет о божественной любви. Тем не менее обаяние такой герменевтики опечатки придавало мне уверенность в абсолютном праве на взаимность и во внехрамовых ситуациях, пока я более внимательно не прочитал стих 34-й главы XIII (поистине насмешка "полубога"!) "Евангелия от Иоанна": "... Как Я полюбил вас, так и вы любите друг друга". Правда, некоторую надежду на всевышнюю обоснованность взаимности "здесь и теперь" я вычитал затем в "Евангелии от Луки" (Гл. VI, стих 32): "И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят". Но здесь эти надежда и право выражены далеко не столь императивно, чем при первом "прочтении". Батюшков, кстати, так писал об определенном периоде жизни "еще нового жителя мира сего" в очерке "Нечто о морали, основанной на философии и религии": "Тогда все делается страстью, и само чтение" (2, с. 182)... Онтологическая — бытийная — опечатка разрушила "маленькую философию" поэта с гораздо большей неотвратимостью, чем столкнувшиеся в то время империи. Когда он в начале 1815 года вернулся из антинаполеоновского похода, завершившего эту еще не Великую, но уже Отечественную войну, надежды на личное счастье рухнули. Близкий знакомый и начальник по новой службе в Императорской публичной библиотеке, известный литератор А.Н. Оленин согласился с тем, чтобы его воспитанница Анна Фурман, ранее подававшая смутные надежды, стала невестой поэта. Однако сама избранница поэта, на этот раз изъявив лишь покорность, не ответила взаимностью на нежные чувства. Кто бы мог подумать, что духовная сторона любви занимает такое большое место у поборника эпикурейской философии, которую он так вдохновенно проповедовал ранее в своем творчестве? Все знакомые осуждали его за отказ от решительного шага. Он же, спасаясь от тяжелого нервного расстройства, уезжает в Каменец-Подольский, чтобы вновь надеть военный мундир. "Жертвовать собою позволительно, жертвовать другими могут одни злые сердца", — объяснил он свой поступок. Что же получилось в результате? Об этом возвышенно-просто поведал в "Разлуке" сам поэт: Напрасно покидал страну своих отцов, Выражение "развалины Москвы" для 1815 года означает невосстановимость былой "картины мира". Но Любовь, а с ней и надежды на взаимность, на "домашний ключ", вспыхнули с новой силой. Тогда-то воображение и устремляется в полулегендарную Тавриду, нетронутый, по убеждению поэта, осколок античной гармонии как "древнего отечества". Друг милый, ангел мой! сокроемся туда, "Таврида" (1815) Батюшкова задала русской литературе образ Крыма романтичного, сказочного, светлого Элизиума, воображаемой страны воображаемо счастливых влюбленных и поэтов, места "последних даров фортуны благосклонной". По-своему актуальными становятся сейчас в эпоху всевозможных откровений обозначенные Батюшковым основания и пределы истинных искренности и исповедальности, связанных с образами этой элегии. "Кто требовал у него сей страшной повести целой жизни? - писал он об "Исповеди" Ж. Ж. Руссо в одной из статей этого периода. — Не люди, а гордость его. Какое право имел он поведать миру о слабостях женщины, которой дружество, столь нежное, столь бескорыстное, усладило юность и успокоило тревожимое сердце мечтателя? Так! человек, рожденный для добродетели, учинил страшное преступление, неслыханное доселе, и это преступление родила мудрость человеческая..." (2, 192). Недостаток личного благородства еще в меньшей степени может быть оправдан литературой, чем отсутствие личного счастья. Из Каменец-Подольского, где круг знакомых поэта был ограничен, он предполагал побывать в Одессе и Херсоне, а затем в Крыму. Но на этот раз его военная служба оказалась недолгой и в конце 1816 года он выходит в отставку, намерения своего, впрочем, не оставив. В июне 1817 года он пишет В.А. Жуковскому из деревни: "Поедем в Тавриду... Здесь, право, холодно во всех отношениях. Проведем несколько месяцев вместе, на берегах Черного моря, — и дальше печально-пророчески: "Ты думаешь, я начинаю бредить?" (1, с. 449). В мае 1818 года он просил Н.И. Гнедича помочь получить как сочинение К. Габрица о Тавриде, так и "греческую трагедию "Ифигения в Тавриде" во французском переводе (2, с. 493). Летом 1818 года поездка на юг состоялась. В весьма солидном издании — К.Н. Батюшков. "Опыты в стихах и прозе". М.: Наука,1977, Серия "Литературные памятники", с. 598, — до сих пор сбивая с толку иных краеведов и литераторов, утверждается, что Батюшков в это время "выезжает лечиться в Крым, где увлекается археологией". В действительности события развивались иначе. Ожидая тогда назначения на дипломатическую службу в Италию, где он рассчитывал в полной мере приобщиться к миру античности как подземному "древнему отечеству", поэт постоянно сомневался, стоило ли ему посещать Крым на самом деле, а не только в поэтическом воображении. "В Тавриду не поеду, — писал он А.И. Тургеневу в июне 1818 года во время вынужденной остановки в Полтаве, — доколе не прояснится моя судьба: туда надобно ехать с покойным духом, без суетных надежд и желаний; в противном случае только телом буду на берегах Салгира, а сердцем — во Флоренции, или в Риме, или в Неаполе... Но если бы Италия не удалась, то Крым в ненастное время осени будет моим убежищем, и бедные развалины обоих Херсонесов заменят мне воздух Нисы (т.е. Ниццы. — А.Л.) и Флоренции, а воздух для меня — главное дело" (1, с. 509). С целью лечения Батюшков поселился в Одессе, там увлекаясь историей и археологией. Осматривал развалины Ольвии. Желание посетить Тавриду в реальности крепнет. "В Крыму все любопытно, — вновь пишет он А.И. Тургеневу в июле 1818 г. из Одессы. — Здесь недавно я бродил по развалинам Ольвии: сколько воспоминаний!.. Жалею, что наш Карамзин не был в этом краю. Какая для него пища! Можно гулять с места на место с одним Геродотом в руках. Я невежда и мне весело. Что же должны чувствовать люди ученые на земле классической! Угадываю их наслаждение" (1, с. 516). У знакомого нам А.Н. Оленина он просит разрешения и соответствующих денежных сумм с целью приобретения для петербургской библиотеки предметов старины в Крыму. По его собственным словам, он "уже совсем было занес одну ногу в Крым", уже явно не воспринимаемый лишь как реальный заместитель Италии и "древнего отечества", но... Буквально за два дня до уже решенного отбытия в Евпаторию пришло известие о назначении в Неаполь. В Петербурге, накануне отъезда в Италию, Батюшков собирался писать большое произведение, посвященное Крыму, вероятно, предполагая при этом вступить и в тематическое, а не только эпиграмматическое соперничество с автором первой русской "Тавриды" (1798) С. Бобровым. Он просит Тургенева уступить или помочь приобрести книгу известного тогда археолога Г. Келера о полуострове: "...мне она необходимо нужна... Собираю все материалы и собираюсь" (1, с. 534). Поэт отправлялся в Италию с мрачным предчувствием. "Я знаю Италию, не побывав в ней. Там не найду счастия: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях, мне драгоценных". Предчувствия эти оправдались. Одиночество, тоска по родине, унижения от начальства еще больше расстроили здоровье. Крыму, по словам Пушкина, посвящены "любимые стихи Батюшкова самого, элегия "Таврида" по чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова" (3, с. 395). В то же время в реальности воображенный "Элизий" оказался одной из беспросветно мрачных страниц биографии поэта, став выражением подлинно трагического разлада между художественным идеалом и действительностью, усугубив его "болезнь не к смерти", но и не к славе. Он не смог тут стать "естества немого подражателем" (как он писал в "Послании" И.М. Муравьеву-Апостолу, ставшему "подражателем" в "Путешествии по Тавриде в 1820 году"). "Подражательства", равно как и сотворения на их основе новых реальностей и мифов он завещал последующим крымским путешественникам и домоседам. Крымская же действительность самого Батюшкова такова. Он прибыл сюда в августе 1822 года уже тяжело больным унаследованным от матери психическим недугом. Вот как через несколько лет описывал симферопольское пристанище поэта Ф.Ф. Вигель. "На самом рубеже предполагаемой Европы и существующей Азии стоял двухэтажный трактир под громким названием Одессы (так он назывался потому, что хозяйка была из Одессы...). Мне отвели в верхнем этаже целую половину его, которая состояла из одной небольшой комнаты и другой пребольшущей. О спокойствии останавливающихся в ней хозяева видно мало заботились: замки все были переломаны, двери плохо отворялись, окна тоже, отовсюду дуло, снизу сквозь пол слышны были голоса, и самые половицы под ногами поднимались и опускались, как клавиши. И в этой комнате, как сказали мне, целую зиму провел несчастный Батюшков". (4, с. 79-80). Сезон для отдыха в этой местности был выбран крайне неудачно. Уже П.И. Сумароков (1803) опроверг бытовавшее представление о повсеместной и постоянной благодатности крымского климата. "Да, так называемая здесь зима есть одно из самых несносных времен года... Обнаженные поля выставляют обезображенные холмы и чернеющиеся расщелины, бродячие облака, как узорчатый дым, расстилаются по потускневшему пространству неба, и уродливый Чатырдаг для оттенки предстает покровенным снежными полосами... Единое наименование Крымских лихорадок наводит ужас" (54, с. 2-3). Поэт не смог написать в Симферополе ни единой строки. Первое время, по свидетельству Н.В. Сушкова, он все же был достаточно общительным, охотно беседовал о былом, любил говорить о Жуковском, Тургеневе, Карамзине, М.Н. Муравьеве. Но вскоре болезнь обострилась, Батюшков сжег и раздарил знакомым все свои книги и рукописи, оставив себе только Евангелие, первым задавая тем самым русской литературе еще одну — гоголевскую — трагедию. Он трижды разными способами покушался на самоубийство. Известия о состоянии Батюшкова достигли Петербурга. В Кишиневе об этом узнает Пушкин, которого в свое время увлекла тема батюшковской "Тавриды", что сказалось в его стремлении побывать в Крыму. Оказавшись здесь наяву, Пушкин тоже поначалу испытывал разочарование, хотя и не столь острое, как Батюшков, с таким же пренебрежением проходя мимо античных развалин, с каким он относился к словесным "развалинам" С. Боброва, сочиняя свой миф об "утаенной любви" (а потом стремясь наверстать упущенное). Мотивы и стилистические находки Батюшкова, вплоть до буквального совпадения отдельных строк и выражений, наблюдаются в пушкинской элегии "Погасло дневное светило", в стихотворениях "Редеет облаков летучая гряда" и "Нереида", в начале неоконченной поэмы "Таврида"; апогея же освоенный Батюшковым "сладостный" стиль достиг в "Бахчисарайском фонтане". Выраженная Батюшковым в "Тавриде" тема бегства от светской суеты в сельское уединение и тишь получила развитие и в поздней пушкинской лирике ("Давно, усталый раб, замыслил я побег..."). "С поэзией Батюшкова в крымских произведениях Пушкина связана особая яркость и предметность изображения природы, сочетающаяся с необычайно гармоничной словесной инструментовкой" (6, с. 35). Пушкин не верит слухам о безумии Батюшкова. "... быть нельзя, — пишет он брату, — уничтожь это вранье" (7, с. 349). Первым по-настоящему встревожился П.А. Вяземский. "Если есть еще прежняя дружба, то поедем за ним", — обратился он к Жуковскому (8, с. 320). Дружба была прежней, но семейные обстоятельства помешали этой поездке. Вместо них в Симферополь отправился шурин Батюшкова П. А. Шипилов и старый приятель Жуковского, директор Петербургского университета Д.А. Кавелин. В его письме Жуковскому от 13 февраля 1823 г. Кавелин сообщал, что по случайности остановился в той же "Одессе". Батюшков жил там уже очень замкнуто, допуская к себе лишь служанку с обедом. Лечивший поэта Ф.К. Мильгаузен рассказал ему о некотором улучшении состояния больного, который месяц тому назад был "очень худ", требовал духовника и объявлял ему, что хочет зарезаться, просил быть свидетелем, что "кроме по сию пору напечатанных моих сочинений, ничего не писал, что если что-нибудь после смерти моей и окажется, то это наверно фальшивое". (9, с. 322). По другим сведениям Батюшкова в Симферополе лечил доктор А.Ф. Арендт. В городе были известны только два этих врача, ставших своеобразными соперниками (население Симферополя делилось тогда на две части, лечившиеся у кого-то одного из них). Могло быть и такое: Батюшков-пациент как бы примирил это соперничество и его лечили оба врача. Лечение, однако, оказалось безуспешным. Батюшков трижды попытался покончить с собой, попеременно испробовав бритву, ружье, голод, а на предложение покинуть пагубное для него место отвечал отказом: "Я не сойду с постели, из Симферополя не выеду: если выгонят из дому, я буду бивакуировать на площади". Как знать, может быть, все же до конца теплилась надежда опять излечиться "таврическим" вдохновением, коль счастье оказалось невозможным? Последнее из отправленных Батюшковым в марте 1823 года писем адресовано таврическому губернатору Н.И. Покровскому. "Милостивый государь Николай Иванович! Прилагаю при сем письмо к моему родному брату* [*Помпей Николаевич Батюшков (1810-1892) государственный чиновник, археолог, этнограф], которое прошу покорнейше доставить ему чрез посредничество А.Н. Оленина или Н. Муравьева. Умирая, не дерзаю просить Государя Императора дать ему воспитание до зрелого его возраста вне России, преимущественно в Англии. Но это мое последнее желание. Уношу с собой признательность к Вашему превосходительству и к попечениям г. Мильхаузена. Будьте счастливы оба с теми людьми, которые мне желают добра, желание бесполезное, ибо я давно и неминуемо обречен своему року. Прикажите похоронить мое тело не под горою, но на горе. Заклинаю воинов, всех христиан и добрых людей не оскорблять моей могилы. Желаю, чтобы родственники мои заплатили служанке, ходившей за мною во время болезни, три тысячи рублей; коляску продать в пользу бедных колонистов, если есть такие; заплатить за меня по счетам хозяину около трех тысяч рублей; вещи, после меня оставшиеся, отдать родственникам, белье и платье сжечь или нищим: человека Павла, принадлежащего К.Ф. Муравьевой, отправить к ней; бывшему моему крепостному человеку Якову дать в вознаграждение три тысячи рублей" (1, с. 577). Стараниями Петровского и Мильхаузена Батюшкова все же удалось усадить в дорожный экипаж, и в апреле 1823 года он Тавриду покинул. Для сопровождения в родную Вологду, где ему еще предстояла достаточно долгая жизнь, был выделен инспектор Таврической врачебной управы доктор П.И. Ланг. Симферопольские образы продолжали витать в больном сознании. Еще одно, уже неотправленное письмо некоему Потапову: "Милостивый государь! Вашим именем я был оскорблен во время моего жительства в Симферополе; Вы лично меня оскорбили в бытность мою на Аптекарском острове; именем Антона Потапова я был оскорблен во время моего жительства в Спасском переулке, где я был под присмотром, оскорблен за женщину, которую мы знаем, каждый со своей стороны. Мое здоровье исчезает. Я Вам предлагаю поединок. Если бы она мне досталась, то Вы не оставили бы меня в покое обладать ею — ни я Вас — клянуся Богом — никогда не оставлю. Еще силы у меня есть, но, может быть, буду слабее от страданий физических. Прошу Вас именем чести Вашей собственной славы не отказаться от поединка. Я могу быть несчастлив, но есть друзья, которые поручиться готовы, что Вы будете иметь дело с честным человеком. Константин Батюшков". (1, 583,584). Кто такой Потапов, насколько реальны понесенные от него оскорбления, осталось неизвестным. Но это только подчеркивает истинность последних таврических слов поэта, не зависимо от степени ясности сознания. Между прочим, краеведы Крыма до сих пор ведут спор о местонахождении гостиницы "Одесса" в Симферополе, уподобляясь пациентам докторов Арендта и Мильгаузена. По одним данным, она была в сохранившемся до наших дней доме на ул. Курчатова, 24/12. По другим — в не уцелевшем здании на углу улиц Чехова и Севастопольской. Эта неясность не должна воспрепятствовать увековечению памяти о "певце Пенатов и Тавриды". Ведь подлинная его гробница (стихотворение, по Маларме, это гробница) находится здесь. Хотя не только здесь становятся по-своему актуальными уроки жизни, сумасшествия и смерти "внутреннего человека", искавшего отечества искушаемого всевозможными "полубогами", среди геополитических, ментальных и экзистенциальных развалин. Источник: Люсый А. Крым как подлинная гробница Константина Батюшкова : маленькая таврическая философия / А. Люсый // Литературная учеба: лит.-филос. журнал. – 1999. – Кн. 1/2/3 (янв. – июнь). – С. 117–125. |
|