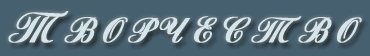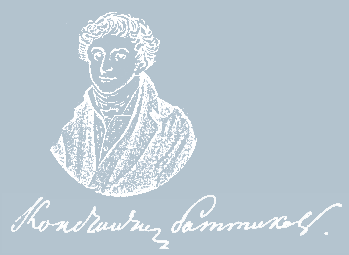
Титульный
лист |
В. А. Кошелев В 1821 году молодой П. А. Плетнев, желая польстить Батюшкову (и загладить неловкость, возникшую в связи со стихотворением Плетнева «Б......в из Рима» [1] [См. об этом: Кошелев В. А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987. С. 284–287.]), опубликовал стихотворный мадригал: |
||||||
|
Мадригал утверждал «ненациональное», «античное» существо творчества Батюшкова и вполне соответствовал устойчивым представлениям современников о «нашем Тассе», «Парни Российском», «новом Тибулле» и т. п. Год спустя Плетнев печатно декларировал представление о Батюшкове как об авторе произведений, которые «сбросили с себя личность времени и места и вышли в таком виде, в каком без застенчивости могли бы показаться в древности и в каком спокойно могут идти к будущим поколениям» [3] [Плетнев Л, А. Заметка о сочинениях Жуковского и Батюшкова (1822) // Плетнев П. А. Сочинения и переписка. Т. 1. СПб., 1885. С. 23.]. Восприятие Батюшкова как «чистого художника», далекого от национальной, стихии, живого носителя «античных» или «италианских» литературных традиций стало первым шагам в осознании и освоении его творческого наследия. Сам Батюшков, по свидетельству современников, расценил этот мадригал Плетнева как «не только оскорбление, но и донос» [4] [Греч И. И. Записки о моей жизни. М.-Л., 1930. С. 490.]. Лестная «надпись к портрету» оскорбила поэта именно провозглашением «вненациональности» его творчества, – именно это Батюшков доказывает в двух своих последних письмах к Н. И. Гнедичу (от 21 июля и от 14 августа 1821 г.). «Скажи им, что мой прадед был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом. Я родился не на берегах Двины; и Плетаев, мой Плутарх, кажется, сам не из Афин» (П, 570) [5] [Произведения и письма Батюшкова цитируются (с указанием тома и страницы) в тексте по изд.: Батюшков К. Н. Соч. в 2-х тт. М. 1989.]. Батюшков отрицает сам способ представления его «древним» поэтом, «ошибкой» оказавшимся русским писателем. Плетнев, замечает он, писал свой мадригал «как будто от лица Виона, Мимнерма, Мосха, Тибулла... Нет ничего глупее и злее» (П, 572). Между тем, представление о Батюшкове как поэте «вненациональном», развивавшем комплекс неких общекультурных идей, стихи которого «на Севере напоминают об Италии» [6] [См.: Филимонов В. Непостижимая. СПб., 1841. Ч. 1. С. 153.], а творчество которого «безлично в смысле народности» [7] [Аксаков И. С. Речь о Пушкине. // Аксаков И. С. Аксаков К. С. Литературная критика. М., 1981. С. 267.], – дожило в литературном обиходе до нашего времени [8] [См., напр.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 165-167.]. Л. Н. Майков в своем капитальном исследовании о Батюшкове высказался на этот счет осторожно: «...русские бытовые черты чрезвычайно редки в его поэзии... Зато непосредственное хранилище народности, русский язык, является в его руках послушным уже орудием: искусство владеть им никому из современников не было доступно в такой мере, как Батюшкову...» [9] [Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. Изд. 2-е. СПб., 1896. С. 239.]. Но сам Батюшков, протестуя против указания на «безнародность» своих стихов, мог разуметь под «народностью» не изображение «русских бытовых черт», а тот сложный комплекс проблем национальности, народознания и народолюбия, который оказался представлен в его наследии очень самостоятельно и необычно. Творчество зрелого Батюшкова началось в 1809 г. сатирой «Видение на брегах Леты», в которой были поставлены вопросы развития русской самобытной литературы в связи, с современным ее положением. «На брегах Леты», в присутствии знаменитых теней умерших поэтов, решается не столько судьба конкретных литераторов начала XIX в., сколько бытование новейших литературных течений, представленным каждым из них. Эти течения «проверяются» не с точки зрения абстрактного «идеала» поэзии, а с учетом национальных требований, к поэзии предъявляемых. Вот два текста, писавшихся одновременно: «взгляд «прозаический» и – «поэтический». Из письма к Н. И. Гнедичу, 1 ноября 1809: «...любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели выхваляют все старое? <...> Глинка называет «Вестник» свой «Русским», как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!» (П, 111). Из «Видения на брегах Леты», представление С. Н. Глинки:
«Бесполезность» «патриотического» течения литературы периода наполеоновских войн Батюшкову вполне ясна: их безудержная «национальная» пропаганда вполне безадресна. Другой тип псевдонационального сознания представлен в той же сатире А. С. Шишковым и его «сочленами»: «Призрак чудесный и великий (В огромном дедовском возке...» (1, 375). Национальные устремления этого течения гораздо серьезнее: они не сводятся к созданию «русского» аналога выдающимся инонациональным явлениям («Жан-Жак я Русский...»), а связаны с поисками основ собственного национального бытия. Но и эти поиски не удовлетворяют Батюшкова:
Предпочтение русской истории всем остальным, «варварство» в употреблении «славянских слов», самодовольный отказ от общекультурных достижений, – эти издержки «самобытнической» устремленности отталкивают Батюшкова: «Перестанут ли школьники топить Гермогена? Перестанет ли Писарев играть на скомонех?..». (П, 116). Деятелей подобного типа Батюшков назвал «славянофилами» (словечко, придуманное, вероятно, И. И. Дмитриевым). Это, однако, не означает, что сам он – «западник». Считая себя удаленным от литературных «баталий» и не принимая официальных «национальных» манифестов, Батюшков вырабатывал собственную художническую ориентацию, по существу своему – двустороннюю. С одной стороны, это отказ от неизбежного «варварства» литературных «староверов» («шишковистов» а, чуть позже, – «Беседы любителей русского слова»); с другой – отказ от рабского следования чуждым «образцам», даже и «великолепным». Первое шло от понимания естественного движения литературы, невозможности возврата к умершим уже формам и схемам: «В нашей Суздали все хотят писать по-суздальски: на яичке, как в старину писали» (П, 380). Второе основывалось на стремлении найти форму собственных «национальных» поисков: слепое подражание неизбежно приводит к превращению Вольтера – «в Ослякова» (эпиграмма «На перевод «Генриады» или Превращение Вольтера» – 1, 378). Поэтому в «Видении...» предпочтение перед всеми живыми поэтами отдается И. А. Крылову, самобытному не вследствие приверженности к какой-то общественно-литературной группировке, а из-за внутреннего существа своего таланта. Поэтому, не принимая, например, баллад В. А. Жуковского, Батюшков возмущается и нападками на них, осознавая, что баллады – этап естественного развития русского таланта. Указывая, что Жуковский «пишет ангелов в немецких париках» (П, 325), Батюшков, однако, не забывает подчеркнуть: «Мы должны гордиться Жуковским. Он наш, мы его понимаем» (П, 239). Н. Н. Булгаков, автор единственной доселе статьи, посвященной проблеме народности у Батюшкова, отметил в качестве определяющей эстетической тенденции творческого пути поэта «тенденцию движения в сторону реализма и народности [10] [Булгаков Н. Н. К. Н. Батюшков и развитие в русской литературе первой четверти XIX века реализма и народности // Проблемы реализма русской литературы XIX–XX веков. Днепропетровск, 1970. С. 34.]. В качестве попыток Батюшкова найти «пути к решению проблемы национально-самобытной русской литературы» исследователь указывает ряд «случайных» примеров: «русский размер» юношеского стихотворения «К Филисе», отсутствие приемов специфически-национальной характеристики в «Мадагаскарской песне», элементы «жизненного романтизма» (?) в романсе «Разлука», «реалистическое содержание раздумий» (?) в элегии «Тень друга» и т. п. [11] [Там же. С. 32-33.]. Примеры такого рода ничего, собственно, не доказывают, а поиски национальной самобытности были у Батюшкова гораздо более значимыми и своеобразными. Вот два соотносимые друг с другом текста Батюшкова: известный романс «Пленный» (1814) и неоконченный набросок «У Волги-реченьки сидел...», который может быть датирован 1810–1811 гг. [12] [Набросок (произвольно датировавшийся 1814-1817 гг.) имеет иную датировку. Автограф его (ИРЛИ, Ф. 19. Ед. хр. 6. Л. 9) сохранился в составе «хантоновского» архива поэта, включающего, в основном, «довоенные» теисты. Он написан на обороте подстрочного перевода XIX оды Горация («К Аристу Фуску»), сделанного для поэта И. М. Муравьевым-Апостолом в 1810 году.].
Оба произведения соотносятся между собою как содержанием (и в том, и в другом случае речь идет о пленнике, находящемся на чужбине, а основой содержания становится песня, которую он поет на берегу чужой реки), так и особенностями стиха (чередование четырех- и трехстопного ямба). И. Б. Голуб, указавшая на эту связь, заметила, что «Волга-реченька» в первом стихе наброска – это какая-то ошибка Батюшкова: пленный не может тосковать «у Волги-реченьки», фольклорного символа русской реки. [13] [Русская литература, 1958. № 4. С. 175–177.] Н. В. Фридман предположил, что Батюшков хотел изобразить солдата, который, находясь «у Волги-реченьки», «пробирается в родные места», находящиеся, вероятно, у другой «реченьки» [14] [Примечание в кн.: Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотв. М.-Л., 1964. С. 307.]. Все, однако, проще: в наброске «У Волги-реченьки сидел...» изображен не «русский пленный», а чужеземец, оказавшийся в плену в чуждой ему России; недаром здесь упоминается еще и «река Дунай», на которой проходили военные действия русско-турецкой войны 1806–1012 гг. С чужеземными пленными в России Батюшков был достаточно хорошо знаком [15] [В одном из писем к Ф. Н. Глинке Батюшков упоминает о пленном французе, жившем до 1818 г. в его имении (П., 523); новый дом в его родовой усадьбе Даниловское был построен в 1813-1814 гг. пленными французами.] – и в данном случае очень точно, хотя и парадоксально передает общую национально-психологическую ситуацию. Элегия «Пленный» написана в традиционной поэтике романса, который в те времена был своеобразным символом французской литературы, ее лирической песенной формой. Если русский романс принципиально отличался от народной песни, то французский – шел именно от нее. Детали повествования о «русском пленном» принципиально «нерусские»: «бархатные луга», «мирт душистый», «янтарный виноград», «златый лимон», «яворы» и т. п. Напротив, набросок «У Волги-реченьки...» (чужеземец в русском плену) густо насыщен именно элементами русской лирической песни: «кручинушка», «родимая сторона», «путем-дорогою», «в лесах дремучих» и т. п. Эти фольклорные мотивы в условно-элегической стилистике произведений Батюшкова вообще выглядят исключениями. Батюшков как бы «переворачивает» привычную литературную ситуацию и привычный «фольклорный» способ отражения «национальности». Русский во французском плену поет французский «романс»; чужеземный солдат в России – русскую «песенку». Уже эта ситуация подчеркивает особенную глубину и безысходность ностальгической тоски, вызывает обостренное чувство родины: не случайно в «Пленном» так ярко выступает тема «дома», «края отцов», «моих морозов», «тереме древнего», «звезд севера» и т. д. Решение проблемы «национальности» Батюшковым глубоко своеобразно. Внешне она строится на уровне абстрактно-мифологическом – как тема Севера, тема «Гипербореев». Однако и на этом уровне Батюшков постоянно полемически «заостряет» возможности утверждения национального («северного») самосознания, отличающегося от привычного сознания жителя «благоденствующих» краев. Такого рода антиномии намечены и в стихах зрелого Батюшкова (поздние редакции «Мечты», «Разлука», «Таврида», «Элегия», «Переход через Рейн» и др.), и в его прозе («Отрывок из писем русского офицера о Финляндии», «О лучших свойствах сердца», «О характере Ломоносова» и т. п.). Но особенно значимо эта тема встала в философском диалоге «Вечер у Кантемира» (1816). Философское содержание этого диалога детально раскрыл М. П. Алексеев, назвавший его «своеобразным исследовательским этюдом, лишь облеченным в форму художественного произведения» и отметивший, что в полемике русского сатирика Кантемира и французского философа Монтескье Батюшков заострил проблему утверждения особого «северного» сознания, выводившую на «историческую судьбу русского народа» [16] [Алексеев М. П. Монтескье и Кантемир // Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. Л., 1983. С. 145-146.]. Но содержание «Вечера у Кантемира» не ограничивается «существенными поправками» к теории Монтескье о климатических зонах. В основе этого исследования Батюшкова – попытка разрешения проблемы народности, предпринятая опять-таки в форме «парадокса». Рассмотрим ситуацию «Вечера у Кантемира». «Антиох Кантемир, посланник русской при дворе Лудовика XV», талантливый поэт и блестяще образованный мыслитель, «Кантемир... писал русские стихи!» (1, 49–50). Уже это обстоятельство – необычно, тем более, что, как признает сам Кантемир, он лишь «неискусный ваятель», сам «русский язык в младенчестве» и, сочиняя на нем, автор «принужден бороться с величайшими трудностями» (1, 52). Более того: Кантемир пишет сатиры с ярко обличительной установкой («...я старался явить порок во всей наготе его...», 1, 61) и вследствие этого его стихи «не допускаются» к соотечественникам. Вместе с тем, Кантемир (как это предполагается Батюшковым) мог бы с легкостью прославиться в Париже, пиши он по-французски, – и был бы известен в России, пиши он не сатиры, а что-то другое... Почему же он выбрал для себя такую роль и, соответственно, такую участь? Этот парадокс является исходной точкой разговора Кантемира, Монтескье и аббата В., в котором Монтескье своей теорией о климатических зонах пытается доказать русскому поэту несостоятельность его устремлений. Он сменяется другим, более общим, – парадоксом России. Речь идет о реформах Петра I, которые Батюшков считает благотворительными для национального развития: «...он создал людей, – нет! он развил в них все способности душевные, он вылечил их от болезни невежества...» (1; 56). Одновременно возникает идея, которую Батюшков высказал еще в очерке «Прогулка по Москве» (1811): «Петр Великий много сделал и ничего не кончил» (1, 288). Батюшкова волнует проблема, ставшая впоследствии знаменем полемики западников и славянофилов, 1840–50-х годов, – проблема современного бытия нации в ее отношении к петровскому перевороту, к «старому» и «новому». «Мы увидели в древней Москве, – рассуждает Кантемир, – чудесное смешение старины и новизны, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другой» (1, 61 – ср. заглавие основополагающей статьи А. С. Хомякова: «О старом и новом»). Причем, автор (как и славянофилы) не отдает предпочтения ни одной из двух «стихий»: «Иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложа бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников...» (1, 61). Рассуждения Батюшкова даже и по терминологии напоминают будущие построения Хомякова. или К. Аксакова: вместе с привитием западной образованности уничтожается прежнее «невежество», но неизбежно возникают и издержки чуждого просвещения, «пороки» вроде «временщиков», «льстецов», «противуречивого» образа правления и т. д. Возникает эклектическое смешение: «Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная, одним словом – страсти, по всему противуположные, сливались чудесным образом...» (1, 61). В контексте борьбы с этой противоестественной эклектикой Кантемир, по Батюшкову, уповает на сатиры, предназначенные для «будущего», и на будущее «просвещение». Он уважительно называет имена первых «достойных» русских просветителей – Феофана Прокоповича, Феофила Кролина, Никиту Трубецкого; он «предсказывает» появление Ломоносова. Для самого Батюшкова – вопрос сложнее: он говорит не столько о просвещении как таковом, сколько о его направленности. Монтескье – «умный человек, великий писатель», – и тут же оговорка: «Не говорит о России как невежда» (1, 62). Этот приговор французскому просветителю, восстанавливающийся не от лица Кантемира, а, как показал М. П. Алексеев, от лица самого Батюшкова [17] [Там же. С. 137–138.], – многозначен. Намечая путь «просвещения» для нации, «пробужденной от сна» петровскими реформами, Батюшков определяет для себя характерную позицию. Противоречия современной действительности «представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью и с Горацием в руках мог отыскать счастливую средину вещей» (1, 61). Батюшков отдает предпочтение тем действующим лицам литературного развития, которые «ощупью», без обманчиво-«умных» теоретических посылок, могут отыскать «счастливую средину». Деятелем такого типа выступил Крылов, – и потому «его басни переживут века» (П, 399). Подобный идеал «срединной» позиции Батюшков видел в «Истории...» Карамзина, по тому же типу выстраивал свою «маленькую философию». Соответственно этой позиции, «национальные» устремления Батюшкова оказывались и глубоко личностными, обусловленными организацией собственного сознания и поведения. Он одинаково часто выступал и против «национальных» лозунгов «славенофилов» (эпиграмма «Истинный патриот»: 1, 382), и против бытового космополитизма русского образованного общества (ср.: «...наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилях французских, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как, и проклинали врагов наших», П, 282). Характерно, что проблема патриотизма утверждается Батюшковым непременно для себя, для собственного «я» (послание «К Дашкову», 1813), и именно эта соотнесенность художественного воззвания с личным, биографически определенным, чувством, придает этому воззванию силу художественного манифеста. Позиция Батюшкова в отношении к национальным проблемам, еще только встававшим перед русским обществом, была, как видим, отнюдь не «безразличной», а возникала очень продуманно и, осознанно. В ней, в свернутом еще виде, оказались представлены важнейшие аспекты проблемы «национальности», которые станут в центре русского литературного сознания лишь десятилетия спустя. Источник: Кошелев В. А. Национальное и вненациональное в творчестве К. Н. Батюшкова / В. А. Кошелев // Историко-литературный сборник : к 60-летию Л. Г. Фризмана. – Харьков, 1995. – С. 39–48. |
|||||||