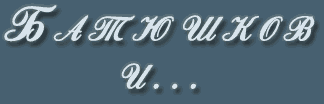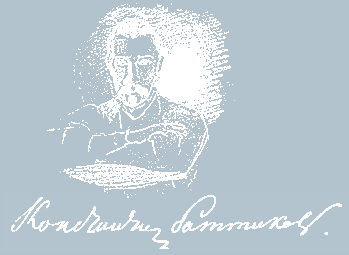
Титульный
лист |
Е. В. Капинос
|
||||||
Для Батюшкова в изображаемом важно нахождение логической соотнесенности между предметами или понятиями. Рассмотрим стихи «Из греческой антологии». Например, в четвертом отрывке «Явор к прохожему»:
Логический ход, разбивающий стихотворение на две части (соотношение «я» – «виноград» (тогда и теперь) сравниваются с соотношением «ты» (прохожий) – «друг твой», а «я» сопоставлено с «ты»), подчеркнут и рифмовкой, и несколькими в небольшом тексте лексическими повторами. [2] [Стихотворение разбивается на два четверостишия с опоясывающей рифмовкой. Причем, в первом случае две мужские рифмы обрамлены женскими, во втором – наоборот, и при этом средние рифмы обоих четверостиший («пень»/ «тень» и «способен» / «подобен») соотнесены между собой благодаря односложности слов в первом случае и краткости грамматических форм – во втором. Кроме того, первая часть скреплена повтором слова «виноград» в первом и четвертом стихах, а центр второй части перемещен в середину второго четверостишия: повтор в 6-й и 7-й строках «дружества» и «друг».] Ясная логическая схема и четкая композиция, отстраняющая непосредственное впечатление каталогизирующей игрой ума, придает изображаемому «объективность», праобраз которой – объективность и законченность греческой эпиграммы [3] [Т.Г. Мальчуковой подробно описаны эти свойства греческой эпиграммы: «Греческого эпиграмматиста интересует не чувство, но объективная картина, рельефно и даже скульптурно обрисованная... Законченность античной эпиграммы – признак не формальный, но содержательный. В этом она противостоит японскому хокку, содержание японских стихов не завершено, оборвано, поэты играют на недоговоренности. Мальчукова Т.Г. Филология как наука и творчество. Петрозаводск, 1995. С. 143-144).] (форма, взятая за основу Батюшковым). Но эффект «объективности» чуть заметно нарушен в глубине стихотворения. Кроме строго обоснованной темы памяти об умершем, в стихотворение вдвинута тема тления не как антитеза (что не нарушило бы логичности), а как легкий резонанс. Слово «полуистлевший», стоящее в центре аллитерации на «т» и «п» («пень», «тень», «пепел» и пр.), элементом незаконченности в семантике подводит описываемое состояние логического равновесия к самому пределу, что усиливается и глаголом «завял», который в отношении к герою является просто частью элегического штампа, а рядом с «виноградом» (предметом, правда, тоже предельно условным) чуть заметно оживляет свое первоначальное значение тления и увядания. Все это делает зыбкой первую логическую основу, однако не доведено до такой степени, чтобы ее нарушить. Образ совершенной, но тронутой увяданием (и оттого живой и хрупкой) красоты присущ поэзии Батюшкова. На резонансных переходах от целостного совершенства до начала разрушения построены многие стихи, например, «Последняя весна», «К Гнедичу», «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы» и др. Часто Батюшков в семантически напряженные точки лирических сюжетов помещает различные предметы: «тимпан» в «Вакханке», «Амуры на часах» в «Ложном страхе», даже не раз спародированный «крокодил» в «Счастливце»:
Эти предметы поставлены как неосуществленные намеки и одновременные запреты интериоризации. В третьем, предшествующем анализируемому нами, стихотворении «Из греческой антологии» такой прием тоже использован Батюшковым, он делит стихотворение «Свершилось, Никагор и пламенный Эрот...» на две части (вторая часть начинается словами: «Вы видите: кругом рассеяны небрежно / Одежды пышные надменной красоты»). Четвертый же отрывок подобным образом начинается (Смотрите, виноград кругом меня как вьется»), что дает почувствовать предельно свернутую, парадоксально доведенную до границы с неявным и поэтому почти скрытую, но все-таки острую напряженность момента. Таким образом, в архитектонике стихотворения Батюшкова заключено и точное следование законам «целокупности» формы («гармоническая точность», по словам Пушкина), и легкое расшатывание логического построения, и игра с запретом на интериоризацию в изображении вещи, что создаст впечатление косвенности лирического высказывания и косвенности лирической личности. Сходные черты можно увидеть и у Мандельштама. Рассмотрим одно из стихотворений:
Здесь, как и у Батюшкова, ясно прослеживается жесткая композиционная основа. Первые две строки соотнесены с двумя последними и создают обрамление, содержанием которого является романтическая поза художника на фоне толпы. Романтического развития лирического сюжета за этим не следует. Вместо обыгрывания темы противостояния заострены черты «позы как позы», как расположения. «Толпа», посреди которой стоит «задумчивый» гравер в первых двух стихах, в последних как бы вторгается в пределы самой гравюры («насаждается» мастерами) или в пределы того континуума, который открывается из уже созданных картин, в их «толпокрылатом воздухе». Две первые и две последние строки – тоже своеобразные логические основы, переведенные в пространственный план. Внутрь жесткого обрамления (твердого даже в лексике: «гравер», «досок», «порядок», «чин») вдвинута расслаивающаяся («трехъярой») текучесть («окисью облитых», «покатый», «накатом», «воск»). Как и у Батюшкова, у Мандельштама можно найти детали, стоящие на пути интериоризации. Каждый предмет претерпевает целый ряд инвариантных коллизий в многоступенчатом и сложном способе создания гравюры, противоречащем стремительности и остроте линии резца. Один из постоянных, появившихся еще в «Камне» образов Мандельштама – ресницы. [5] [Возможно, что именно Батюшков открыл поэтический горизонт для «ресниц» в одной из самых известных своих элегий «Пробуждение»: Зефир последний свеял сон / С ресниц, овеянных мечтами...] Определение ресниц – «собственные» вносит в стихотворение интимную ноту и напоминанием о внешнем облике самого поэта, и напоминанием о стихах, посвященных Тинатине Джорджадзе («Я потеряла нежную камею...») и Ольге Ваксель («Жизнь упала, как зарница...»). Но в то же время «повис на собственных ресницах» – это метафора прищуренного взгляда (ср. «Чего тебе еще? Скорей глаза сощурь, / Как близорукий шах над перстнем бирюзовым...»). Кроме того, ресницы мешают чистоте профильной линии, если «лирическое я» представить объектом гравера. Путем бесконечного дифференцирования, «размывания» четких границ предметов отстраняется конкретность и обнажается «чистое бытие» (О. Мандельштам). «Собственные ресницы» оказываются лишь одним из ряда одинаково возможных и одинаково отзывчивых атрибутов лирического героя. Все это может служить примером косвенности лирического высказывания Мандельштама. Таким образом, стихи Мандельштама и Батюшкова объединяет абстрактная объективность построений, в глубине которых скрыты искажения, доводящие поэтические образы до границы с противоположным, но этой границы не нарушающие, что создает ощущение «объективности» изображения. Источник: Капинос Е. В. Словесная архитектоника Батюшкова и Мандельштама / Е. В. Капинос // Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы». Вып. 1. От сюжета к мотиву / под.ред. В. И. Тюпы. – Новосибирск, 1996. – С. 112–116. |
|||||||