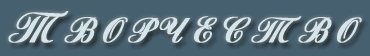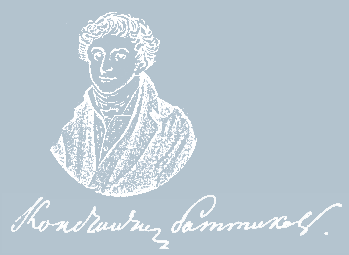
Титульный
лист |
Т. Жирмунская |
||||||||||||||
|
Стих его – стройный, гибкий, плавный. Называю те качества, которые он сам более всего ценил в поэзии. Строки Батюшкова расхватаны на эпиграфы другими авторами, а это удел поэтического совершенства... О том, что Батюшков – любимец муз, певец любви и дружества, эпикуреец, не чуждый эротики, знает каждый, кто сколько-нибудь интересуется русской поэзией. Такая односторонняя оценка ранила поэта. Он считал себя «обруганным хвалами». А хвалили его особенно охотно за грациозное изображение рискованных (с тогдашней точки зрения) картинок, вроде следующей:
В наше время грубого секса, слишком откровенной телесности, выползающей отовсюду, как тесто из квашни, не худо бы поучиться нам у изящного мастера соблазнительной недоговоренности – Константина Батюшкова. Свои увлечения такого рода он прошел навылет и в записной книжке дал иронический штрих к своему автопортрету: «Сегодня беспечен, ветрен как дитя; посмотришь завтра – ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока». Многое предшествовало этой записи... С начала 1807 года поэт в ополчении. Простой ратник, он видел падение Москвы, участвовал в войне 1812 – 1814 годов. Был тяжело ранен. Как остался жив, «Богу известно» (из письма Гнедичу). Идеи просветительства если и держали его в своих розовых цепях, то очень недолго. Дело не в том, что судьба по-скалозубовски дала ему фельдфебеля в Вольтеры. На полях сражений, среди крови и насильственной смерти, его стало мутить от самого вольтерьянства, которое он еще недавно с пафосом разделял: «Варвары, вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того ослеплены, что подражали им, как обезьяны». У каждого поэта есть тайна. Нет тайны – нет и поэта. Под тайной Батюшкова я разумею не любовные страсти, не амурные грешки, эротоманом он никогда не был. Современники упоминают несколько его увлечений – и все! Вполне вероятно, что эпикурейскими стихами он, как это водится у пишущей братии, возмещал недоданное Небом. Тайна была другого рода. Безумие нависало над поэтом. Психической болезнью страдала его рано умершая мать. Неблагополучная наследственность грозила и со стороны отца. Близкие знали о его опасениях. «С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли – не знаю»,– писал он Жуковскому. «Белый» и «черный» человек, по Батюшкову, живут в одном теле. С «черным» он связывает опасность сумасшествия, творческого бесплодия, беспросветного одиночества... С «белым» – здоровье, духовное и физическое, плоды вдохновения, дружбу и любовь. «Белый,– цитирую поэта,– спасает черного слезами перед Творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми». Так что «поправел» и «ударился в религию» вольтерьянец и либерал не только потому, что разочаровался в «венчанном революцией» Наполеоне, как утверждают исследователи, но и по причине глубоко внутренней, чисто психологической. Вера была едва ли не главным условием его дальнейшего полноценного существования. Задам себе вопрос, несколько странный с обычной точки зрения (с точки зрения истины), но понятный, думаю, современникам и соотечественникам: можно ли у нас в России, став горячо верующим христианином, не оказаться против своей воли в лагере крайне консервативном, реакционном? «Безусловно! – отвечает даже скромная эрудиция.– Тому примером поздний Пушкин, Чаадаев, Владимир Соловьев, философы-богословы серебряного века, Александр Мень...» Батюшков – один из первых в этом не столь уж длинном ряду. «Вправо» он двигался очень своеобразно. Славянофилом, в позднейшем понимании этого слова, не стал. Интересно, что сам неологизм «славянофил» с разницей в одну букву («е» вместо «я») придуман Батюшковым, и вон какая у него оказалась долгая история! Квасного патриотизма на дух не выносил, писал другу: «... любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество?.. Глинка называет «Вестник» свой Русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!» Поверхностная вера часто замкнута в самой себе. Не то у Батюшкова! Свою жизнь он хочет строить по Евангелию: любить врагов своих, не судить ближних, мерить людям такою мерою, какой и для себя желал бы... Разгорается литературная борьба. Староверы от словесности воюют с реформаторами, «Беседа любителей русского слова» с «Арзамасом», Шишков – с Карамзиным. Поле битвы – язык, но вокруг простираются необозримые пространства противоположных умонастроений, общественных, нравственных, религиозных идей... Воинственный арзамасец в недавнем прошлом, Батюшков пытается сгладить противоречия, видит не только «вину», но и «правоту» супротивников, признается, что «охота спорить... укротилась от времени». Батюшкова не понимает до конца даже такой родственный по взглядам поэт, как Николай Гнедич, переводчик «Илиады». Гнедич не богат, но хочет помочь другу и коллеге: издать его двухтомник – «Опыты в стихах и прозе». Автор с радостью соглашается на скромные условия, только бы ему ни во что не «вступаться»... Но «вступиться» в спор с издателем все-таки пришлось. Константин Николаевич категорически возражал против включения в «Опыты» самого известного своего опуса – «Видение на берегах Леты», где высмеивался русский литературный Парнас. Удивленному Гнедичу свою несговорчивость он объясняет так: «Лету» ни за миллион не напечатаю. В этом стою неколебимо, пока у меня будут совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть!» Гнедич не счел возможным не посчитаться с этим юродивым письмом. «Видение» появилось в печати только 24 года спустя! В «Опыты» вошли два важных для нашей темы стихотворения: «К другу» и «Надежда». Первое обращено к Вяземскому:
В самом деле, много ли она может, «светская мудрость» даже самых высоколобых? Какие «плачевные времена», какие «развалины столиц», «развалины общего порядка» (все выражения принадлежат Батюшкову) она предотвратила? Какой зажгла свет, чтобы он не обратился на глазах современного или последующих поколений во тьму кромешную? Поэт горячо убежден, что выход в другом:
Пушкин считал, что другое батюшковское стихотворение, «Надежда», следовало бы назвать «Вера». Да, речь тут идет именно о вере, и твердый полнозвучный стих («Мой дух! доверенность к Творцу!..») как будто не допускает мысли о внутренних колебаниях. Но не забудем, что в душе поэта никогда не утихала буря: «белый» человек в нем спорил с «черным», сегодняшний христианин – с вчерашним вольтерьянцем, трезвомыслящий – с возможным безумцем. Каждый смертный, без исключения, бывает в пограничных состояниях, ум может помутиться у любого из нас. Кто слишком полагается на себя, считает себя, любимого, последней инстанцией истины, ощущает свою самодостаточность, не имеет и не желает иметь выхода к ценностям высшего порядка, пусть помнит: это чревато... Батюшков, как никто, понимает хрупкость нашего сознания. «Боже великий! что же такое ум человеческий – в полной силе, в совершенном сиянии, исполненный опытности и науки? Что такое все наши познания, опытность и самые правила нравственности без веры, без сего путеводителя и зоркого, и строгого, и снисходительного?» («Нечто о морали, основанной на философии и религии».) Только истины Евангелия, по убеждению поэта, «есть щит и копье доброго человека, которые не ржавеют от времени...». Вершина творчества нашего героя – элегия «Умирающий Тасс», на мой взгляд, один из перлов русской поэзии. Нет сомнения, что Батюшков чувствовал свое родство с великим итальянцем, чьи жизненные злоключения – драма и поэма, слитые воедино. Автор «Побежденного Иерусалима», бродяга, гений, безумец, из тех, что расплачиваются своей бренной плотью и слишком уязвимой душой за приобщение к вечности, притягивал его как собрат, как жестоко гонимый «божественный певец». Легенда рассказывает, что Торквато Тассо, или Тасс, был заключен герцогом-покровителем в сумасшедший дом, где провел более семи лет. Недуг, который его терзал, надвигался и на Батюшкова: мания преследования. «Тасс,– пишет в примечании к элегии Константин Николаевич, – к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший и в ясные минуты рассудка чувствовал всю горесть своего положения». Не будем давать тут историческую оценку крестовым походам, освобождению Гроба Господня от неверных – это увело бы нас сильно в сторону... Насладимся великолепным стихом, приводящим на память Державина:
«И Тартар низложен сияющим крестом!» – ликует Тасс устами Батюшкова. В Тартар, ад, как известно из Нового Завета, совершилось сошествие Христа, избавившего грешников от мук, вырвавшего жало у смерти... Иисус Христос умер на кресте. Бывший орудием казни, крест становится знаком любви, символом спасения. Батюшков не забывает напоминать об этом. В одном из лучших своих стихотворений, «Переход через Рейн», поэт двумя строчками передает, что случилось с варварским миром после крещения:
В 1821 году Батюшков написал свое известное стихотворение:
Слова ветхозаветного персонажа Мелхиседека, царя-первосвященника, кстати, приписанные ему русским поэтом, вроде бы не оставляют человеку никаких надежд. Дата под стихами – спорная, но я принимаю ее, потому что именно в 21-м году прогрессирующая душевная болезнь взяла поэта за горло. Более тридцати последних лет из своих 68 он и жил, и не жил, ибо для поэта творческая немота – смерть. Хуже, чем смерть. Есть некоторое утешение в том, что 21-м годом датировано и шестое из «Подражаний древним», которое противоречит изречению Мелхиседека:
Источник: Жирмунская Т. Библия и Батюшков / Т. Жирмунская // Юность. – 1994. – № 8. – С. 66–67. |
|||||||||||||||