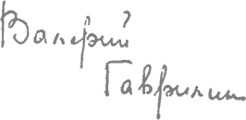Волков С. М.
Новое, но невыдуманное: Валерий Гаврилин
/ С. Волков // Молодые композиторы Ленинграда. –
Ленинград, 1971. – С. 70–84. |
Соломон Волков. Молодые композиторы Ленинграда. -
М., Л.: "Советский композитор", 1971. - с. 70-84
НОВОЕ, НО НЕВЫДУМАННОЕ
ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН
Скажем, прямо: писать о Валерии Гаврилине трудно, и прежде всего потому, что слишком уж мал список сочинений, обнародованных автором. Если не считать музыки к кинофильмам и театральным постановкам, то, в сущности, можно говорить лишь о трех вокальных циклах («Немецкая тетрадь» на слова Г. Гейне, «Русская тетрадь» и «Времена года»), да о двух тетрадях фортепианных миниатюр.
А между тем на сегодня Гаврилин, пожалуй, самый известный из молодых ленинградских композиторов. Но, может быть, популярность эта достигнута на легком пути «эстрадного» успеха? Может быть, композитор поддерживает ее, раздавая направо и налево интервью, улыбаясь фотокорреспондентам, выступая по телевидению? Нет, лучшее сочинение Гаврилина — вокальный цикл «Русская тетрадь» — отнюдь не рассчитано на «легкий» успех, его нельзя слушать между делом, для развлечения. Корреспондентов Валерий избегает, интервью дает редко и весьма неохотно. Чем больше о нем говорят, тем меньше он расположен говорить о себе сам. У него свое понимание популярности.
ГАВРИЛИН:
— Леопольд Моцарт в альбоме своего сына, Вольфганга Амадея, записал когда-то: «Ты должен стать популярным». Речь шла не о чуткости к музыкальной моде, потребительским музыкальным вкусам невзыскательной публики, а о чуткости к состояниям, переживаниям современного композитору общества. Лишь тогда обретет смысл наша популярность, когда наше искусство будет не только «белоручкой», но и «чернорабочим». А это очень важно, так как своей музыкой мы должны расплачиваться с беспрецедентной по величине и составу аудиторией, каждая часть которой состоит из живых людей, мимо которых нельзя пройти. И мы обязаны работать на них, как они работают на нас. Я глубоко верю в их художественную интуицию, в то, что всякое явление, независимо от его сложности, оценивается ими по достоинству. Это относится не только к музыкалъным произведениям. И не только к тому, что общедоступно. Так, у нас с большим уважением относятся к космическим исследованиям, хотя в них многое для нас и не-понятно, и неизвестно. Что же касается туповатой руготни, которую иногда слушатели адресуют и хорошей современной музыке, то ведь и космические исследования иным людям кажутся ненужными. Вместо этого они предпочли бы иметь хорошо налаженное производство спальных гарнитуров.
Сам Валерий в «большую» музыку пришел путем, который когда-то мог показаться чуть ли не исключительным, а сегодня представляется привычным, «традиционным». Родился в Вологде, детство провел в маленьком городке Кадникове, потом — в деревне. Затем — детдом, детдомовский хор. Талантливого мальчугана заприметили, показали приезжему ленинградцу-музыканту. И Гаврилин оказался в интернате Специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории. Вот ведь как все просто. А если вдумаешься: сколько хороших людей должен был встретить Валерий, чтобы так, в несколько строчек, могла уложиться дорога от желания «рисовать ноты» до занятий композицией под руководством опытного и чуткого педагога! Тем более, что поначалу не все складывалось гладко...
ГАВРИЛИН:
— Недавно ученик одной из ленинградских школ сломал ногу. Мальчик убегал через окно с музыкального лектория. Когда мне рассказали этот занятно печальный случай, я вспомнил свою первую встречу с большой музыкой.
Мне было тогда четырнадцать лет, и я услышал в граммофонной записи предсмертную арию Сусанина из оперы Глинки. Несколько месяцев спустя, будучи уже учеником Специальной школы при Ленинградской консерватории, я слушал трансляцию премьеры Десятой симфонии Шостаковича. До сих пор чувство трудноопределимого страха охватывает меня при одном только воспоминании о чем-то мутно колышущемся, большом и непонятно-бессмысленном, во что вылились мои ощущения и от первого и от второго сочинения... Я бы предпочел сломать ногу, нежели пережитъ их снова...
Учиться музыке было трудно, потому что поздно начал. А учителя у меня были замечательные и учили прекрасно.
Больше всего давала мне их собственная игра — на фортепиано, на кларнете (я был тогда кларнетистом). Выражение их лиц, движения тела, рук, пальцев — все раскрывало для меня смысл показываемой музыки. Особенно пальцы на фортепиано: их разнообразнейшая «мимика» поначалу казалась мне ненатуральной и очень смешной, каким-то кривляньем, а потом я обнаружил, что не могу воспроизвести даже приблизительно характер пьесы, если пальцам не придам то или иное «выражение», и специфический вид музыканта-артиста во время игры или пения не казался уже мне странным и не вызывал недоумения и смеха.
Когда я кончал девятый класс, в школе открылось композиторское отделение. Я показал свои первые композиторские наброски, и меня приняли. Так как времени не хватало, пришлось расстаться с кларнетом...
Неправдой было бы сказать, что, найдя себя в композиции, Валерий Гаврилин никогда больше не испытывал сомнений в правильности избранного пути. Самокритичность, требовательность к себе, свойственные подлинно одаренным натурам, доведены у Гаврилина до того предела, у которого они становятся тормозом сочинительства. Отсюда ощущение творческого кризиса, охватывавшее его не раз и не два. Написав на втором курсе консерватории вокальный цикл на слова Генриха Гейне (о нем речь пойдет дальше), Гаврилин внезапно бросил занятия композицией и с головой окунулся в собирание и изучение фольклора. Много ездил, размышлял, написал интересную работу о народнопесенных истоках творчества Василия Павловича Соловьева-Седого. Взгляд со стороны точно рисует нам облик Валерия в фольклорной экспедиции:
«В прошлом году мне довелось быть вместе с ним на родине Мусоргского, — пишет ленинградский фольклорист И. Земцовский,— в Торопецком районе Калининской области, где я видел, как внимательно беседует он с певцами, расспрашивает их о жизни, вслушивается в речи, записывает тут же не одни лишь напевы, но и полюбившиеся выражения, тексты, а потом аккуратно и тщательно переписывает все начисто в отдельную нотную тетрадь. Его волнуют не только образы песен, но и — в не меньшей мере — образы живых людей. Не удивительно, что Валерию мало дает прослушивание магнитофонной записи. Для того чтобы песня вошла в его собственный душевный мир, он должен за ней увидеть человека, его речь, облик, жизнь, мысли. Должен увидеть и услышать все сам»
1 (1.И. Земцовский. Русское в «Русской тетради». «Советская музыка», 1966, № 12, стр.
34).
ГАВРИЛИН:
— Народную песню знают у нас, к сожалению, плохо, и не понимают так же точно, как и самые сложные композиции современной музыки. Представление о старинной народной музыке ограничивается в основном впечатлениями от сочинений «кучкистов» и от собранных и обработанных ими подлинных напевов. Но это лишь очень малая (капля в море) часть того, что создано музыкальным гением народа. За годы Советской власти, и в особенности за последние годы, советскими фольклористами-собирателями найдены такие сокровища, которые являются буквально откровением в музыке, способным обновить профессиональное музыкальное сочинительство и привести его к открытиям новых, но невыдуманных эмоций, гармонических структур, интонационно-драматургических комбинаций...
Когда Гаврилин говорит о народной музыке или о песнях Соловьева-Седого, то одновременно словно бы размышляет о том, какие новые закономерности надо нащупать, какие связи открыть, чтобы сказать своей музыкой нужное слово ждущим этого людям.
ГАВРИЛИН:
— Если проанализировать творения Соловьева-Седого, нетрудно понять, что элементы городской и крестьянской песенности находятся здесь в теснейшей, органически неразрывной связи. От мелодии к мелодии можно наблюдать не только сам процесс все большего и большего их взаимопроникновения, взаимоврастания, но и его результат, который определяет неповторимую свежесть как будто бы давно привычного в музыкальном искусстве выражения эмоций. Короче говоря, можно наблюдать становление своеобразного музыкального дуализма, но не эклектичного, а как бы двуединого.
Имело ли ранее место объединение городских и крестьянских песенных интонаций? Да, имело и шло параллельно по трем каналам: город осваивал крестьянское, деревня, с начала капитализации, осваивала городское, армия вбирала в свою песенностъ и то и другое.
Армейская песенностъ — грандиозный коллектор и трансформатор музыкальных интонаций, которыми насыщен общественный слух времени, различных слоев общества. В ней аккумулируются все попевки, ритмы, кадансы, зачины и кульминации, какие только приносят с собой в казармы люди из деревень и городских предместий; здесь они видоизменяются и накрепко увязываются в единое целое.
И не случайно песенный стиль Соловьева-Седого формировался в годы войны, окреп и углубился в послевоенные годы. Выдающаяся заслуга композитора состоит в том, что он почувствовал все перечисленные выше процессы интонационного брожения и развил их в своем творчестве, найдя органическое воплощение многим специфическим приемам и закономерностям, весьма неоднородным по своим выразительным свойствам, назначению, составу.
Годы, прошедшие между созданием двух вокальных «тетрадей», были заполнены напряженным трудом, и в итоге оказалось, что они не прошли для Гаврилина зря. Интересно сейчас сравнить оба сочинения.
«Немецкая тетрадь» завоевала известность, ее охотно поют вокалисты, тепло принимают слушатели. В самом деле, в этом вокальном цикле много привлекательного. Ясно различимый талант автора выносится нами за скобки, и не о нем пойдет речь. Останавливает внимание настойчиво проведенная через весь цикл тема, впоследствии развитая и обогащенная Гаврилиным в «Русской тетради»: разлад мечты и действительности.
Тема не нова, и обращение Гаврилина к стихам Гейне также, казалось, должно было свидетельствовать о намерении автора идти проторенным путем. Думаю, что если бы так случилось, если бы в том, как переложены эти стихи на музыку, не ощущалось изрядной доли полемического запала, то цикл утратил бы значительную часть своего очарования.
В издании 1966 года «Немецкая тетрадь» открывается романсами «Осень» и «Гонец». Первый романс — это тонкая пейзажная зарисовка, исполненная и настроения, и внутреннего смысла,— своего рода прелюдия к циклу.
Второй — эффектный номер «балладного» толка с «несущимся во весь опор» фортепианным сопровождением, с бурными crescendi и резкими акцентами, а также с «полагающейся» в таких случаях (по неписаной, но устойчивой традиции) раздумчивой срединою. Номер, что и говорить, сработан на славу. Певцы его очень любят.
Но для меня цикл (если подразумевать под этим словом не формальное объединение «под одной крышей» разнохарактерных вокальных номеров, а нечто, спаянное единством авторской позиции, взгляда, мысли) начинается с «Разговора в Падерборнской степи».
Разговор ведут два весьма рельефно очерченных Гаврилиным персонажа. Одному из них все чудятся «звуки контрабаса, флейты, скрипки», либо, на худой конец, «волынки скромной», раздающиеся в сельской глуши. Другой решительно разрушает эти романтические звуковые миражи: «Уж не спятил ли с ума ты? Это хрюканью свиному вторят визгом поросята». Так сказать, с высоты небес — носом в грязь. Традиционный конфликт, и у Гейне акценты расставлены недвусмысленно: да, проза жизни окружает нас повсюду, от нее не уйдешь, но по большому-то счету прав романтик!
Сложнее дело обстоит у Гаврилина. Когда отзвучит «Разговор в Падерборнской степи», нелегко сказать, кто вышел истинным победителем в споре и на чьей стороне симпатии автора. Вряд ли на стороне «романтика», грезящего о том, как мило «пляшут поселянки на лугу, под сенью липки». Он обрисован весьма ироничными штрихами, его вокальная строчка нарочито субтильна, жеманна. Особенно ясно видно это в заключительном разделе «Разговора», в котором «романтик» отворачивается от «грубых картин» реальности: слова распеты таким образом, что создается впечатление с искусственности, нарочитости, неустойчивости. Тогда, быть может, Гаврилина привлекает позиция «реалиста», последовательно утверждающего торжество «хрюканья свиного»? И тут ответ не может быть однозначным. «Реалист» саркастичен, и не зря, но его сарказм слишком безжалостен, бескрыл, чтобы быть плодотворным.
И только когда вслушаешься в музыку «Разговора в Падерборнской степи», начинаешь понимать, что победителя в этом споре быть, пожалуй, и не может: спор-то ведется в душе одного человека, только на разные голоса. Один и тот же человек хочет услышать «флейты, скрипки» там, где видит «только свинопаса», и иронизирует он над собою же. Потому и «романтика» и «реалиста» характеризует один и тот же музыкальный оборот, разумеется, соответственно трансформированный: он невесом и элегичен, когда сопровождает одного, и намеренно груб, тяжеловесен, когда «подтверждает», поддерживает трезвые сентенции второго голoca. Спор с собою, душевный разлад... Так по-новому пересказал Гаврилин старую романтическую историю «раздвоении» души. Есть что-то детское в музыке Гаврилина, даже если она повествует о совсем, казалось бы, недетских вещах,— детское в ухватках, в интонации. (Между прочим, ребятишки чувствуют это прекрасно. Я видел, как заинтересованно реагировала на «взрослые», в сущности, «Времена года» сугубо детская аудитория.) В «Милом друге», который в «Ненецкой тетради» следует сразу же за «Разговором», речь идет о любви. Но слышим мы типичную дразнилку, со всеми ее приметами. Так и хочется вместо слов Гейне запеть: «Жених и невеста, тили-тили тесто!» Конечно, перед нами взрослый человек, в его подтрунивании нет детской безжалостности, но интонации дразнилки прорываются чем дальше к концу, тем явственней, словно сдерживать себя все труднее, и на заключительных словах «Милого друга» мы как бы воочию видим высунутый язык насмешника, а герой сразу превращается в невоспитанного мальчишку.
Таково «лирическое интермеццо» цикла. Вновь Гаврилин не следует пассивно за гейневским образом, но чисто музыкальными средствами дает ему новую, неожиданную трактовку.
Следующий номер, «Добряк», представляется мне менее интересным в музыкальном отношении, хотя в общей драматургии цикла он занимает нужное место. Несмотря на несколько ярких, точно найденных деталей (среди них нужно выделить «припев», сообщающий всей невеселой в общем-то истории какой-то бесшабашный, озорной оттенок), здесь нет «изюминки»,— может быть, и потому, что нет внутренней полемики с текстом Гейне.
Завершающее звено «Немецкой тетради» — «Ганс и Грета» — примечательно в нескольких отношениях. Во-первых, в «Гансе и Грете» с наибольшей отчетливостью прозвучал столь важный для Гаврилина мотив «во чужом пиру похмелья», мотив несчастья и тоски «на миру», посреди чужой радости, чужого счастья. Во-вторых, в этом номере — единственном, пожалуй, в «Немецкой тетради» — вырвались наружу «шубертианские» симпатии композитора. «Поразительно, что Шуберт, как никто другой, способствовал углубленному обращению Гаврилина к русской народной песне,— замечает по этому поводу И. Земцовский.— Это не парадокс, хотя ощутить это легче, чем сформулировать. Шуберт, как олицетворение душевной чистоты и красоты, с его тяготением к песенному мелодизму, с его «почерком»—ясным, почти детским, и русская песня — вот два важнейших истока музыкального мышления и языка вокальных циклов Гаврилина»
1 (1 И. Земцовский. Русское в «Русской тетради». «Советская музыка», 1966, № 12, стр.
33).
В «Гансе и Грете» интонации шубертовской Lied естественно соседствуют с русскими народнопесенными оборотами, а один из «персонажей» «Ганса и Греты», бедный Петер (по меткому наблюдению А. Сохора — «родной брат шубертовского мельника»2)
(2 А. С о хор. Две «Тетради» В. Гаврилина. «Советская музыка». 1965, №
11, стр. 23), который смотрит, «ногти кусая от горя», на чужое пышное и надменное свадебное торжество, охарактеризован попевкой, восходящей к традициям «жестокого» романса и появляющейся впоследствии в «Русской тетради». Так — непростым путем — перекидывался
мостик от вокального цикла на слова Гейне к «Русской тетради», сочинению, которое ныне с полной уверенностью можно причислить к значительнейшим достижениям советской музыки последних лет.
О впечатлении, которое произвела «Русская тетрадь», музыкальный критик М. Бялик вспоминает так: «С этим сочинением большая аудитория познакомилась во время Декады музыкального искусства Ленинграда в Москве в конце 1965 года. «Русская тетрадь» В. Гаврилина оказалась последним номером в программе последнего фестивального вечера (если не считать состоявшегося на следующий день заключительного гала-концерта). К тому времени были уже, как водится, написаны обобщающие репортажи о декаде, подведены итоги. И вдруг — произведение такой впечатляющей силы! Авторам отчетов пришлось добавить фразы с восклицательными знаками в конце. На дружеской встрече московских и ленинградских музыкантов, которая состоялась сразу после концерта, только и было разговору, что о появлении нового большого таланта, «музыкального Есенина»
1 (1 М. Бялик. «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина. «Музыкальная жизнь», 1968, № 1, стр.
7).
За прошедшие годы популярность «Русской тетради» все росла. В 1967, году двадцативосьмилетний Гаврилин за это произведение был удостоен Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки, став, таким образом, самым молодым лауреатом этой премии. «Русскую тетрадь» включили в свой репертуар Н. Юренева, З. Долуханова, Т. Синявская, Р. Бобринева, многие другие певицы; ее поют в консерваториях, музыкальных училищах, кружках самодеятельности.
В чем секрет ее силы, ее огромного воздействия на самых разных по степени подготовленности, по склонностям и симпатиям, наконец, по возрасту слушателей?
Можно ответить просто: в том, что по корням, сути, духу своему «Русская тетрадь» — сочинение глубоко народное. Но вряд ли такой ответ удовлетворит читателя, и он будет прав. Поэтому попытаемся, в подтверждение сказанного выше, взглянуть на цикл пристальнее.
В самом деле, каковы характерные приметы народного в «Русской тетради»? Может быть, они проявляются в использованных песнях, мелодиях?
Но в «Русской тетради» нет ни одной цитаты, ни одной песни не ввел в свой вокальный цикл автор, не переписал из заветной тетради... Слова, правда, взяты народные, но они столь свободно перекомпонованы, «перетасованы», композитором, что их можно считать авторскими «вариациями»
на бытующие в деревне фразеологические обороты, образы, сравнения.
Тут надо отметить одну примечательную особенность «Русской тетради». Михаил Пришвин сказал как-то: «У нас часто не понимают фольклора. Думают, это сказка, былина, записывают это прошлое как прошлое. Но фольклор не есть только прошлое, а творится ежедневно». У Гаврилина есть это обостренное восприятие фольклора как живого и развивающегося явления (вспомним выдвинутую им теорию «двуединого» песенного стиля, кристаллизующегося в результате взаимовлияния деревни, города, армии). Поэтому «интонационные зерна» (термин И. Земцовского) мелодики «Русской тетради» тесно связаны с так называемым «новым» деревенским фольклором, несущим на себе несомненные влияния городских напевов, поэтому в цикле слово «калина» (старинный символ девственности) причудливо соседствует с гораздо более поздней «розочкой». В языке сочинения (и в музыкальном «ряду», и в текстах) нет ничего намеренно архаического, сознательно возвращающего нас к истокам, к древним чистым пластам народной культуры. Более того, если ткань «Русской тетради» «разъять, как труп», то окажется, что многие ее элементы весьма сомнительны по вкусу. Но сделать это невозможно. «Русская тетрадь» живет как цельный организм. Она правдива изнутри, это не описание, а исповедь.
Гаврилину удалось самое трудное: не прибегая к прямым заимствованиям, воссоздать строй народного мышления во всей, его естественности и органичности.
И не случайно героиней цикла стала женщина. На Руси долгие века женщине была доступна, в сущности, единственная область искусства — пение. Ее мучили, унижали, издевались над нею, но уж в пении можно было избыть горе, поплакать, повыть, попричитать. Нигде не выражала себя народная душа ярче, пронзительнее, сокровеннее, чем в бабьих причитаниях и заплачках. Искусство в них становилось жизнью, а жизнь — стократно оплаканная, «прошитая» и разукрашенная формульными заклинаниями, вскриками, причетами — приобретала черты искусства.
В «Русской тетради» мы не ощущаем авторского присутствия. Повествование идет не просто от имени деревенской женщины, нет, оно словно изливается из недр бабьей души, вырывается как крик и как стон. Героиня «чувствует свое бушующее сердце и не знает, где этому сердцу место в уме»
1 (1 А. Платонов. Сокровенный человек. В сб. «В прекрасном и яростном мире». Повести и рассказы. М., 1965, стр.
368), она «думает чувствами».
Поэтому образность «Русской тетради» «преданалитична». Чувственное познание оказывается в данном случае не первичной ступенью, а главным этапом процесса, оно окрашивает все стороны сочинения, сообщая ему удивительную эмоциональную достоверность. И мы не чувствуем себя обедненными. Наоборот. Погружаясь в мир «Русской тетради», начинаешь сознавать, что интуитивное познание, на которое так талантливы люди из народа, может дать им более верное представление о жизни, более глубокое ее понимание, чем рациональное, и что человек, «думающий чувствами», «сокровенный человек» — необыкновенен, духовно прекрасен.
Как сделана «Тетрадь»?
При первом взгляде на драматургию цикла она кажется симметрично выстроенной: восемь номеров ясно разделяются на две части (по четыре номера в каждой), кульминация приходится на четвертый номер, номера первый и пятый как бы предваряют, «вводят» в действие, а третий и седьмой представляют из себя аналогичные по настроению картины-воспоминания и т. д. Но симметричность эта сознательная (она словно копирует симметричность вышивок на стенных ковриках в деревенских горницах) и потому оказывается, в сущности, мнимой. Внутреннее развитие к пятому номеру как бы исчерпывается; но новый «круг», хотя в нем. и не вводятся какие-то принципиально иные образные мотивы, вовсе не идентичен уже отзвучавшему.
Стихия народного чувства в гаврилинской музыке предстает все время в самых разных и неожиданных его выражениях. И дело здесь не в том, что перед нами проходят почти все народнопесенные жанры: частушки и лирические песни, хороводные и плясовые, «страдания» и плачи,— а в том, что «заполнение» жанра происходит непривычным путем, всякий раз открываются какие-то вторые и третьи планы, конкретизация чувства осуществляется через его тончайшие индивидуальные проявления.
ГАВРИЛИН:
— Как-то мне рассказали, что в одной из ленинградских школ умер после тяжелой болезни десятиклассник, красивый, умный парень, которого все очень любили. Трагическая ситуация, и ничего нельзя в ней изменить. Умер, многого не узнав, не увидев, не полюбив. А, наверное, есть где-то девушка, которая бы его полюбила, будь он жив.
И я решил написать о несостоявшейся любви от лица этой девушки, хотел написать поэму о любви и смерти.
Каждую из восьми песен цикла (это песни-воспоминания) я старался расположить так, чтобы уже само их чередование выражало контрастность чувств, переживаний, заставляло следить за действием.
Предельное обнажение чувств было необходимо в «Русской тетради», равно как и непосредственность выражения эмоций, какими бы «смешными» или «глупыми» они на первый взгляд ни показались. Отсюда и прием-воспоминание, и смешение реального и ирреального в рассказе героини, и даже ее бред — как в «жестоком» романсе...
Начинается «Русская тетрадь» негромким, словно приглушенным пением, пением-ожиданием: «Во малине буду ждать парня, ждать парня, ой, буду». Поется для себя, вроде бы спокойно, и только фортепиано выдает степень напряжения внезапными тяжелыми, акцентированными ходами на форте.
Подчеркнем, что, несмотря на явное предпочтение, оказываемое Гаврилиным голосу (это и понятно), роль фортепиано в цикле также весьма значительна. Голос в «Русской тетради» звучит на множество ладов: тут, помимо привычного мелодического пения с аккомпанементом, и речитация, и говорок, и пение, лишенное вибрации, и ненотированные возгласы и вскрики, и даже разговорные фразы, произносимые без музыки. Но и фортепиано, хотя использовано оно несравненно скупее, играет очень важную роль, зачастую «договаривая», расшифровывая то, что остается скрытым в вокальной строчке.
К сожалению, еще ни разу не довелось мне услышать удовлетворительного исполнения фортепианной партии «Русской тетради»; всякий раз ее комкают, словно проглатывают окончания, недостаточно внятно и решительно артикулируют, не исполняют и половины авторских указаний. А это неизбежно сказывается на общем впечатлении...
Как много, например, значит четкий, колкий ритм фортепиано во втором номере, «Страдальной», где он, словно стержень, «держит» на себе то взвивающуюся к небу, то стремглав, на глиссандо, «съезжающую» (почти через две октавы) линию голоса. Здесь тревога уже ощутима: «Мил друг уехал далёко...», но фортепиано не выпускает ее, удерживает.
А в «Страдальной» (№ 3) оно создает почти сказочный, чарующий, призрачный фон. Это самая ласковая, самая «спокойная» песня цикла, в ней любовь — «мука сладкая», и в музыке сладкая усталость, и «зорю видно», и столько нежности к любимому, что вспоминается «Любовь и жизнь женщины» Шумана.
Но вот приходит «Зима». Это центр «Русской тетради» и по месту, которое она занимает, и по своему содержанию. Здесь впервые трагедия любящей женщины встает во весь свой исполинский рост. Зима не на дворе, она в душе, человеку холодно не от мороза — от горя.
Природа занимает совсем немного места в цикле Гаврилина, она ему тут не важна, важнее тот «психологический параллелизм», о котором некогда писал крупный русский филолог А. Н. Веселовский и который с таким мастерством использован композитором в четвертом номере. Оттого и стала возможной производящая столь мрачное впечатление ирреальная картина: «Вышла на крыльцо, холодно мне. Девки, девки идут, цветы несут...»
В «Зиме» голос и рояль идут «на равных», попеременно выступая на первый план: инструменту дан развернутый самостоятельный эпизод, рисующий душевное смятение героини, и тут же он словно прячется — звучит «жестокий романс» «Домой возвратилась с прогулки». Безжизненность, застылость, «невсамделишность» романса подчеркивается глухими мерными аккордами фортепиано. И вновь инструмент «договаривает», подводит итог, когда после отчаянной скороговорки-заклинания мы слышим вскрик — «У меня защитник есть, я жена мужняя!» — и ударяет похоронный колокол. Кончился первый «круг» «Русской тетради».
Теперь, когда слушатель введен в атмосферу трагедии, композитор продолжает детализировать психологическое состояние героини. Вот она старается уверить и себя и нас, что ей весело, весело, до жути весело и что за ней «приедут завтра ямщики» («хороводная» песня «Сею-вею»). А вот с недоброй усмешкой приглашает: «Приходите, мужички, вечерочечком, прогуляюсь я по вам с батожочечком» (шестой номер, «Дело было»). А за всем за этим стоит бабья великая, неизбывная тоска, тоска по любви, по счастью. В предпоследнем номере, «Страдальной», вновь воедино сплелись явь и бред, воспоминания о встречах-разговорах с милым и судорожные всхлипы.
Наконец, завершающая песня, названная Гаврилиным «В прекраснейшем месяце мае». Она точно описана А. Сохором: «...счастье и любовь — это лишь воспоминания; на всем лежит печать отрешенности и огромной душевной усталости. Голос звучит без вибрации, мертвенно, будто героиня глядит на мир откуда-то издалека, «с того света». И когда она произносит последнюю фразу, совершенно независимую метрически от аккомпанемента: «Прощай, мой милый, мой дружочек... Ты напиши мне письмецо...» — становится ясным, что это конец всего, расставание с жизнью»1
(1 А. Сохор. Две «Тетради» В. Гаврилина. «Советская музыка» 1965, № 11, стр.
26). Так заканчивается это напряженно-мучительное повествование.
Но вот ведь какое чудо: человека, прослушавшего «Русскую тетрадь», вовсе не охватывает чувство мрачной безнадежности. Грусть гаврилинской музыки живительна и необходима, и тут нет противоречия с общим строем, сутью «Русской тетради». Чувство это рождено умилением (слову этому пора вернуть его истинный, без иронического или уничижительного оттенка смысл) от встречи с женщиной, чья душевность стала подлинной духовностью, а страсть — могучей и, в конечном итоге, жизнеутверждающей силой. И вспоминаешь слова Андрея Платонова о Женщине, «которой жить печально, одиноко и душевно невозможно и которая находит силу своего счастья и спасения в собственном жизненном развитии, ассимилирующем всякое горе, в естественной тайне своего человеческого сердца, в женственном чувстве, которое верно бережет другого человека и до сих пор хранит и сохранило целое неистовое человечество»
1 (1 А. Платонов. Размышления читателя. Статьи. М., «Советский писатель», 1970, стр.
39).
Музыка Гаврилина — рядом с этой чудесной женщиной, вместе с ней. Композитор уверен в целительной силе искусства.
ГАВРИЛИН:
— Однажды, лет десять тому назад, я проходил по Моховой улице. Тогда на ней помещался Ленинградский ТЮЗ. Впереди меня шли больные полиомиелитом дети. Они опаздывали в театр. И чем больше они торопились, тем медленнее двигались вперед. Воспитательница, маленькая, худенькая, пожилая женщина, успокоительно их подбадривала, а ее голубые, пронзительные от Отчаяния глаза, на мгновение задержавшиеся на циферблате уличных часов, казалось, умоляли: «Остановите, остановите пьесу!»
Я вышел встретить больных ребят после спектакля. Они шли спокойные и красивые. Они не могли много говорить во время ходьбы, но выражение лиц было счастливое.
И тогда я испытал особое чувство веры в чудодейственность искусства, в его удивительную притягательную силу. И мне страстно захотелось, чтобы и музыка, прекраснейшее из искусств, стала понятной и необходимой для всех, чтобы все ее любили, дорожили бы ею, верили бы в нее.
БАНЕВИЧ:
— После «Русской тетради» мы услышали не так уж много новой музыки Гаврилина (в основном это была музыка к театральным постановкам и кинофильмам). На мой
взгляд, в ней немало интересного, яркого. И все-таки Гаврилин показывает меньше новых сочинений, чем хотелось бы. Причины на то, как мне кажется, разные. Написав «Русскую
тетрадь», он сразу стал почти «классиком» и теперь должен соревноваться с самим собой. От Гаврилина ждут чего-то необыкновенного и в то же время уже знакомого. «Не тот Гаврилин!» — такое услышать не хочется, такое словно бы. лишает композитора права на эксперимент.
И другое. «Русская тетрадь» — это клад, найденный композитором. Естественно, что клады каждый день не отыскиваются.
Быть может, Валерию недостает уверенности в том, что новый клад находится где-то рядом, поблизости...
Гаврилину свойственно особое стремление к подлинности, музыкального языка даже в мелочах. Попробую объяснить, что я под этим подразумеваю. Блок в записных книжках пишет о своих привязанностях в театре: «Люблю деревянный квадратный чан для собирания дождевой воды, на крыше над аптечкой возле Plaza de Toros в Севилье (Музыкальная драма — «Кармен»). Меня не развлекают, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи) в чеховских пьесах (и в «Кармен», например, тоже).
Очень люблю психологию — в театре. И вообще, чтобы было питательно». От этих деталей, замечает Блок, у него сжимается сердце. У Гаврилина есть это тяготение к бытовой детали, к мелочам, к подробностям (а в музыке бытовое можно показать ничуть не менее рельефно, чем в литературе). И он, подобно поэту, умиляется быту, и у него «сжимается сердце», и мы ясно ощущаем это в его сочинениях,— например, в сюите из музыки к кинофильму «В день свадьбы» (по известной пьесе Розова). Там быт опоэтизирован, там девушка перед свадьбой поет: «Сшей мне белое платье, мама, самых белых цветов белей...» Или чудные по своей проникновенной описателъности фрагменты музыки к спектаклю Ленинградского ТЮЗа «После казни прошу...»
Гаврилин ищет, и я думаю, что поиски эти не окажутся безрезультатными. Сила страсти, верность чувств, серьезность отношения к теме говорят о его художественной мощи. Не каждый, даже и талантливый по-настоящему, композитор может писать, как Гаврилин, так же как не каждый, пусть и незаурядный, человек наделен талантом любить. |