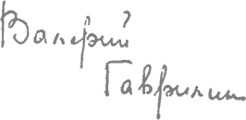|
Белов В.И.
Голос, рожденный под Вологдой:
Повесть о композиторе Валерии Гаврилине
/ В. Белов //
Наш современник. -
2004. - № 9. - С. 15 - 68. |
ГОЛОС, РОЖДЕННЫЙ ПОД ВОЛОГДОЙ:
ПОВЕСТЬ О КОМПОЗИТОРЕ ВАЛЕРИИ ГАВРИЛИНЕ
Предисловие
Из чего складывается национальная культура? Ома складывается из деятельности простых смертных людей, действующих либо в науке (логика), либо в искусстве (художественный образ). А верующие смертные люди делятся на обычных и на святых подвижников. И в науке, и в искусстве такие люди присутствуют. Национальную культуру создают гении и таланты. Градация талантов неисчислима, иное дело гениальные люди, их можно сосчитать, загибая пальчики. Одним из последних русских славянских гениев можно считать певца Фёдора Шаляпина. Певец, то есть музыкант, — главная ипостась этой личности. Значит, можно сказать, что были у него и неглавные ипостаси? Именно так и есть. Шаляпин был не только певец, но, например, и писатель. Превосходным графиком и живописцем был М. Ю. Лермонтов. А Константина Коровина, Илью Репина разве нельзя назвать писателями? Вообще, у талантливых живописцев сие обстоятельство встречается довольно часто: например, живописец Рылов был и прекрасным прозаиком. Музыку вполне уместно сопоставить с поэзией и живописью. Даже термины у них одинаковые. Создатели национальной поэзии и музыки подобны творцам живописи, и тех, и других, и третьих не напрасно кличут художниками. Художник-поэт, художник-живописец, художник-композитор. Все трое художники, все трое творцы, создатели новых образов! Великая национальная культура как раз и складывается из таких образов, будь то поэзия (литература), живопись вкупе с графикой, музыка с её жанровым многообразием.
Да, разумеется, народная, вернее, государственная, то есть национальная, культура и цементируется художественными образами! Для того чтобы представить цельность национальной культуры того или иного народа, достаточно вспомнить творцов хотя бы недавнего прошлого, хотя бы такой страны, как Франция, в музыке, в литературе, в живописи. Если говорить о России, то возникают немедленно такие имена, как Александр Пушкин, Модест Мусоргский, Фёдор Шаляпин, Алексей Саврасов, Михаил Лермонтов, Иван Гончаров, Георгий Свиридов, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов... Увы, время не останавливается и не возвращается вспять. Вернуть человека из небытия может только художественный образ, например слово и музыка. Музыка возвращает людям ощущение прошлого, способна даже создать образ человека живого, его личности, состояние его души, ума, почти реального, почти ощутимого физически. Кинематографу, на наш взгляд, не под силу такая способность, не под силу и живописи, несмотря на все их способности воплощать образы отдельных людей, отдельных личностей. Испокон существует в человечестве и нехудожественная, то есть научная логика. Может, в осознании всего этого и состоят национальные свойства всех русских талантов. И литературных, и живописных, и религиозных, и научных... Народы и племена мира родили великое множество творцов. Разобрать, кто есть кто по рангу, дано не каждому. Перепутать художников и творцов можно и не по умыслу, то есть случайно. Но особенно вредят национальной и общемировой культуре те, кто делает это намеренно... Судьбу музыканта Гаврилина можно сравнить с судьбой поэта Рубцова. Валерий Гаврилин и Николай Рубцов — оба плоть от плоти русской национальной культуры. Оба они соразмерны по таланту, сходство их личных судеб очевидно, и оно просто потрясает. Трагична была их жизнь и смерть. Эта трагичность их жизни и смерти начиналась с несчастий их родителей. Отцы, породившие замечательного поэта и замечательного музыканта, безвременно умерли. С отцом Гаврилина это случилось в самом начале жестокой схватки с врагом. .Социальные потрясения, последовавшие за этой схваткой, общеизвестны. А матери? Судьба матерей обусловлена тоже как раз войнами — Гражданской и Отечественной. Но и не только... Гаврилинская родительница ещё в 20-х годах в полной мере испытала последствия Гражданской войны. Почему так много бед навалилось на Россию? Тут и Первая мировая, Гражданская, тут и всевозможные революции, тут сплошь война за войной. И за всё это расплачиваются обычно женщины... А дети вырастают с талантами. Становятся музыкантами и поэтами. Но проходят годы, умирают и дети, увы, раньше времени... ГЛАВА ПЕРВАЯ Наследственное сиротство
...Меня пугает обрушившаяся на нас с экрана музыкальная агрессия. Под сё влиянием наш национальный биоритм изменяется на генном уровне, и у меня возникает чувство тревоги, что лет через сорок наш народ уже нельзя будет назвать русским. Леонид Бородин ("Литературная газета", № 5, 2003) Вологда... Это родина, которая меня взрастила с младенчества, и она для меня так и осталась матерью, а я для нее дитё, даже, наверное, не очень разумное... Валерий Гаврилин (Из последнего телеинтервью)
Сердце Валерия Александровича Гаврилина остановилось в январе 1999 года, а родился он в августе 1939 года. Не прожил и шестидесяти лет...
Чтобы понять душу Валерия Александровича, надо прежде всего понять душу его матери.
Вот с этого и начнём...
Драматизм гаврилинской судьбы во многом объясняется драматизмом, даже трагичностью судьбы Клавдии Михайловны. Автор обязан хотя бы кратко, хотя бы вскользь рассказать читателям, почему судьба Клавдии Михайловны трагична...
Майна-река веками текла в одну сторону — к Волге. Стремилась она слиться с великой русской рекой не очень быстро, скорее медленно. Зато надёжно. Огибала Майна холмы и селения устойчиво, из года в год, упрямо и ежедневно, как надёжно и ежедневно вставало над калмыцкой степью золотое вечное солнышко.
Лишь по весне, когда сгорали степные снега, Майна, подобно необъезженной кобылице, неудержимо рвала ледяные панцири и уносила их на стрежень могучей Волги. Кто бы тогда попробовал остановить реку?
Босоногая девочка Клаша, жительница приволжского села Старая Майна, очень любила эту весеннюю пору. На глинистых берегах проглядывали первые яркие цветочки мать-и-мачехи, высоко в голубое небо отвесно, с несмолкаемой песней поднимались весёлые жаворонки, в поле чуть ли не из-под носа взлетали крикливые чибисы. И так тепло, празднично было на деревенских улицах в пасхальные и первомайские дни! Как много услышано звонких родимых песен!
Жизненный путь Клавдии Михайловны Гаврилиной куда как страшнее и драматичней, чем у сына... В широком плане такая женская судьба характерна для всей России...
Впрочем, преподобный Никита Студийский мог бы, вероятно, и не согласиться с таким суждением. Он говорил о трёх состояниях человека: о плотском, о душевном и о духовном. Конечно же, крыша над головой — это плотское. О душевном же состоянии автор "Добротолюбия" толкует как о срединном положении между грехом и добродетелью.
Рождение русского музыкально одарённого мальчика произошло при весьма странных обстоятельствах, кои не объяснишь, если читатель не знает новейшей российской истории. Что значит новейшая? Ну, хотя бы что произошло с Россией в 20-х годах сразу после революции. До сих пор налицо могучие силы, не заинтересованные в правде, препятствующие правде. И правде об искусстве тоже. И особенно когда идут размышления о судьбе Н. Рубцова, Г. Свиридова, В. Гаврилина.
Самое сильное впечатление производили на меня вальсы Валерия Гаврилина, например, вальс, посвященный Николаю Рубцову.
Другое сильное впечатление было от песен Гаврилина, прежде всего — "Простите меня". Трагические интонации волнуют меня до сих пор. Очень интересна музыка к "Женитьбе Бальзаминова" в записи Вл. Чернушенко.
А как интересно пела Валерия Гаврилина Лина Мкртчян! Увы, вездесущий Швыдкой не пускал её ни на эстраду, ни к микрофонам.
Ничто не происходит случайно. Случайно ли судьба Кубенского озера так прочно спаяна с историей нашей Родины? Разбилась о подводные камни в бурю княжеская ладья. Спаслись лишь несколько дружинников и сам князь. Этот случай дал название крохотному островку. Позднее островок окреп за счёт тяжких многопудовых валунов, привезённых русскими па лодках, а может быть, на плотах. Эти привезённые с берега громадные камни защитили на островке от волн несколько саженей сухой земли. На этой земле была срублена православная часовенка, давшая начало Спасо-Каменному монастырю. Первый каменный Преображенский собор, взорванный большевиками, поднялся в наших местах как раз на этом пятачке земли. Достраивал собор в 1481 году брат Ивана III Андрей Меньшой...
Случайно ли вокруг Спас-Камня с тех пор по всем берегам длинного Кубенского озера поднялись десятки монастырей и храмов? Выстроен был в том числе и тот храм, где сподобился есть сиротскую кашу Валера Гаврилин — будущий композитор. Автору этой книги представляется, что всё это было не случайно...
А закономерно или случайно был взорван еврейскими чекистами и русскими безбожниками собор, построенный в 1481 году? Колокольня и сейчас стоит, хоть и без креста. Не то чтобы динамита у разрушителей не хватило, они могли бы и ломами разворотить, то есть вручную. Просто для судоходства понадобилась эта колоколенка.
Увы, мы своими грехами заслужили всё это: и взрывы соборов, и свержение православных крестов на могилах предков.
Но вернёмся к семье, к детству будущей гаврилинской родительницы. О, как оно быстротечно, наше детство! Ещё короче бывает девичество. Мы не знаем, как оно, девичество, прошло у матери Валерия Гаврилииа, знаем лишь, что сиротство её было несчастным.
Клавдия Михайловна родилась в 1903 году в упомянутом приволжском селе Старая Майна. Как пишет она в своей биографии, отец её имел шестерых детей, он крестьянствовал, занимался хлебопашеством, но был вынужден прирабатывать, находясь на службе у биржевого приказчика*
(* Вероятно, этот биржевой приказчик занимался хлебной торговлей). Землю пахал с родным братом, так как лошади не было.
Когда Клаве было пять лет, умерла её мать. За детьми приглядывали женщины из многочисленной родни. После начальной школы девочке удалось поступить в гимназию города Ставрополя**
(** Город Креста, как говорит Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Нынешний Тольятти), основанного в 1738 году на луговой стороне Волги для жительства крещеных инородцев. В 1921 году девушка покинула Ставрополь и вернулась в родное село. Там и окончила школу II ступени. Что творилось тогда в Поволжье, трудно даже представить. Уезд, до революции вывозивший более трёх миллионов пудов хлеба, теперь вымирал от голода. Поедали собак, кошек и даже падаль... На базарах продавалось человеческое мясо.
Юную девушку Клаву Гаврилину вместе с истощёнными детками Старо-Майнского дошкольного детского дома власти отправили на север, в Вологду. Начался полный тяжких невзгод и приключений трудовой путь молодой учительницы.
Вологодское губоно отправило всех приехавших из Поволжья в Верхнюю Кокшеньгу Тотемского района. Из Кокшеньги девушку перебросили в саму Тотьму. (Через какое-то время вблизи Тотьмы появился на свет мальчик-сирота Коля Рубцов.)
В Тотьме юную и беспомощную Клаву заела тоска по родине. Она решила вернуться в Майну. Девушка покидает Сухону и устремляется к Волге. Но там, на Волге, отчаяние охватило её ещё больше, на севере хотя бы людоедства не было. Через два месяца голод и привязанность к оставленным маленьким страдальцам-дистрофикам вернули её обратно в Вологду.
С 1923-го по 1929 год Клавдия Михайловна трудилась воспитателем в Некрасовском детском доме, пока областной отдел народного образования не ликвидировал это богоугодное заведение.
В 1929 году Гаврилипу перевели в город Кадников старшим воспитателем тамошнего детского дома, то есть слегка повысили. Вскоре уже не только дети, а и взрослые называют её по имени-отчеству. В 1937 году она становится заведующей.
Но странные слухи ползут по тихому Кадникову! Клавдия Михайловна боялась и не любила говорить о первом внебрачном ребёнке. Кому какое дело, кто его отец и где он погиб? Мальчик умер, по-видимому, в Кадникове. Почти никто не знает, кто был его отцом. Откровенничать в сталинские времена вообще было опасно, однако женщины есть женщины, особенно канцелярские сослуживицы и жёны начальства. Болтали, хотя и шёпотом, но обо всём: о голоде на Волге, о тюрьмах, об арестах. Гаврилина старалась помалкивать, запретила болтать и своим сослуживцам. Но что касалось нравственности, говорить женщинам не запретишь. Своего первенца она назвала Валерием,
его могилка, вероятно, в Кадникове. В тоске и отчаянии она схоронила первого сына. (Ходили слухи, что он мог решать сложные арифметические задачки.)
И второго сына она назвала Валерием. Кто был его отцом? Не очень-то много мы знаем о нём, но кое-что знаем. В 1938 году, когда Гаврилипа служила заведующей в Кадниковском дошкольном детском доме, произошло её знакомство с Александром Павловичем Беловым*
(* Странное совпадение: отец Гаврилина мой однофамилец. Валерий Александрович всю жизнь проявлял интерес к этой фамилии), бывшим председателем колхоза, членом ВКП(б), ставшим заведующим роно. Подобное знакомство уже не скроешь ни от женщин, ни от мужчин. Ползут слухи, она встретила их весьма мужественно. После всего, виденного ранее, — что могло её испугать?
Но вся и беда-то в том, что нравственная сторона нового знакомства для Клавдии Михайловны была очень уязвима, так как Александр Павлович был женат. У него имелись дети от другой женщины. Тут уж слухи становятся совершенно безжалостными. Страдала и карьера отца будущего ребёнка. Для матери начались новые невзгоды и приключения. Не забудем, что Валерик — второй сын. Родился он в августе 1939 года.
Была ли любовь между Александром Павловичем и Клавдией Михайловной? Разумеется, любовь была, хотя наверняка тайная, подпольная...
Партийная карьера Александра Павловича типична для тех лет, то есть она была коротка, стремительна и трагична. В 1937—1938 годах партийная книжица никому не сулила лёгкой жизни! Начальники действовали по одному принципу: "Не хочешь делать — заставим, не умеешь — научим". Не так уж было трудно головой понять это нехитрое солдатское правило, но как понять сердцем?
Многие задубелые партийцы не знали, что им делать, куда ступить сегодня, куда завтра. Не все были ярыми ленинцами, не все зубрили историю ВКП(б) и занудные марксовы "капиталы". Даже за малый позыв к другой, не марксистской вере тотчас можешь поплатиться головой либо десятилетиями будешь ночевать на воняющих клопами тюремных нарах...
17 августа 1939 года в Вологде родился Валерий Александрович Гаврилин. После родов Клавдия Михайловна привезла младенца в Кадпиков. Надвигался учебный год. И хотя она работала в дошкольном детском доме, проверке всякими комиссиями подвергались и дошкольные учреждения. В результате в 1941 году вологодские власти перебрасывают Клавдию Михайловну жить и работать на новое место, в другой, Кубеноозерский район.
"Одна голова не бедна, а если и бедна, то одна", — говорит русская пословица. Такими пословицами встретили бабы-колхозницы беременную вторым ребёнком**
(** Дочь Клавдия Михайловна назвала Галей) Клавдию Михайловну, прибывшую в деревню Перхурьево. Бабы сочувственно охали, вздыхали, пряча под передниками наработанные, в крупных жилах руки. Эти передники были холщовые, домашней крашенины разных цветов, иногда ситцевые. Женщины не стеснялись новоприезжей, многие и сами были на сносях. Окружённые мелкими ребятишками, тараторили они одна другой шибче.
Это было зимой, а к весне 41-го, уже "опроставшись", Гаврилина окончательно поселилась в Перхурьеве.
И всего-то шесть-семь домов, один из них казённый, принадлежащий детскому дому. Сам детдом размещен неподалёку в соседней деревушке. Ребятишек разместили внизу бывшего Кресто-Воздвиженского храма. Крест на нём был давно свергнут. Креста на соборе нет, а жить-то всё равно надо. К весне 41-го Клавдия Михайловна окончательно освоилась с новой работой. Маленький Валерик тоже осваивался на новом месте, вон уже в прятки играет с ровесниками, успел уже где-то и свежей крапивой обжечься. Целыми днями бегает. На Первое мая было особенно радостно: вымыла пол в избе и на крыльце, устроила место для спанья, даже занавески на окна повесила. Но Александр Павлович не приехал...
Начались безрадостные, но весьма напряжённые будни. Ох, сколько забот с питанием, с постельным бельём, с прачками, с нянечками, сторожами, со всевозможными ремонтами! С Александром Павловичем удавалось видеться
довольно редко, на совещаниях в селе Кубенском или в Вологде. Заикался говорить что-то о разводе с женой, но всё как-то не очень уверенно.
22 июня неожиданно всё смешалось... Война. Александр сразу же был призван в Красную армию, а забот у директора детдома стало ещё больше. Одна светомаскировка вымотала и директора, и обслуживающий персонал. Во всех деревнях причитания и женский вой — провожают мужиков и парней. Господи, что только будет!
Новый детдом находился в деревне Воздвиженское. Отсюда начался скорбный путь Клавдии Михайловны в тюрьму, а затем и в могилу... Но для маленького Валерия деревни Перхурьево и Воздвиженское оказались благодатным оазисом. Они наградили мальчишку первыми незабываемыми впечатлениями. Всё, что касается языка, природы, народных обычаев, песенной народной стихии, — отсюда, из Воздвиженского и Перхурьева. Без этих двух и окружающих их деревушек и деревень не было бы у России композитора Гаврилина.
Что значит деревенская жизнь для одарённого мальчика, об этом должен знать каждый. Сельская жизнь не повредила бы и городским жителям: подросткам и взрослым, богатым и бедным, слабеньким и здоровым.
Перхурьево всех встречает вольным зелёным простором, чистейшим воздухом и благо желательностью здешних жителей. Луговой летний и снежный зимний простор дополняется далью Кубенского озера. Летом так часто, па глазах, меняется эта даль! То светлая зеркальная многовёрстная гладь, то вдруг от одного случайного ветерка всё меняется. Вода, то тёмная и рябая вблизи, то густо синеющая вдали, вдруг пойдёт светлыми, быстро исчезающими полосами, смывая очертания противоположных берегов. Полосы то приближаются, то исчезают. Всё зависит от ветра, откуда и с какой силой он дует! Вода меняется, делается тёмной, и тогда ощущаешь её глубины...
Над головой Клавдии Михайловны сгущались вологодские тучи, большие и малые. Валерик и Галя ещё не чувствовали этого. Хотя кто знает? Что мы ведаем об ощущении детей, когда человек только-только набирается сил, торопится расти? Это ведь тоже для нас тайна.
Пересуды вокруг матери и двоих полусирот между тем густели, как густеет порой синева, переходящая в озёрную темноту. Одноногий инвалид Великой Отечественной, кузнец Афоия, только усугубил шаткое положение Гаври-линых... Пошли не слухи, а настоящие письменные доносы, и не куда-нибудь, а в органы власти.
Сынок и дочка уже ходили деревенскими тропками, резко пахнущими кудрявой ромашкой. О, как дурманяще сильно пахнут эти тропинки, как напоминают они Старую Майну! Родное село и добрая, всё простившая сестра Маруся снятся Клавдии чуть ли не каждую ночь. Но как тяжело, как неприятно пробуждение ото сна! Скорей, скорей к повседневным заботам. Спасибо соседям, тёте Склиде и её племяннице Але Кузиной. И Клавдия Михайловна успевает белить стены, красить столы и двери, искать мужиков, чтобы починить сломанный туалет, крыльцо. Ведь лето быстро кончится, а там новый учебный год. Не за горами новые проверки, очередные комиссии, отчёты и акты. Вот, наконец, нашёлся старичок с алмазом для резки оконных стёкол. Не было в Воздвиженском и Перхурьеве этого проклятого стеклореза-алмаза. Пришлось бегать, искать в других деревнях. Искала этот алмаз чуть ли не в самом Кубенском...
Но чем больше делаешь, тем зловещее и разговоры, и слухи среди работ-пиков райотдела и облоно. Рождение Гали только подогрело неприятные бабьи сплетни. А Афонина родня не зевает, и вот на Гаврилину уже глядят как па какую-то "прости-господи", глазки-то у некоторых откровенно масленые. В придачу проверка за проверкой, считают всё, вплоть до подушек и наволочек. Каждый килограмм крупы на учёте, каждый фунт постного или коровьего масла. Что-то будет?..
Вот подоспела осень. Удачно и даже с успехом ребятишки детского дома выступили с концертом художественной самодеятельности, а ей забот ещё больше. Сколько грязи осенней натащили детки в этот день, не успевают уборщицы мыть полы! Да и дома в Перхурьеве пол давно грязный. В Соколе рассказывают, что Саша, будучи начальником, сам иногда мыл полы с дресвой, своими руками. Не ждал никаких уборщиц. Теми же руками и на мандолине, и на балалайке играл...
Подморозило наконец. Грязь и слякоть исчезли, но приспели другие заботы. Заготовка дров — главная задача. Надо ехать на запань... Недолго думая, запрягла в санки казённую лошадь, вожжи в руки и поехала — уже установился надёжный зимний путь. Зима 40-го года была надёжная.
Только положение Гаврилиной было не такое надёжное, как лёд на Кубенском озере...
Через 10 лет, когда она вот так же ехала по льду озера, милиционеры догнали ее и даже не позволили вернуться домой, выпрячь лошадь...
И вспомнилось тогда, как летом косила с девками траву для детдомовской лошади. Тёплый ветряной вздох донёс до покоса непонятные звуки из дальней деревни. Похожи на причитания, когда кого-то хоронят. Побежали домой, а все бабы в Воздвиженском и Перхурьеве голосят, причитают. Только что без седла, охлюпкой, проскакал деревнями пьяный нарочный. Война! Это было сразу после обеда 22 июня. Откуда война? Что? Мужик даже не остановился, галопом в другую деревню...
Кто бы хоть попричитал сейчас, повыл над этим холодным снегом в мертвящей тишине! Никто не завоет до ночи. Может, завоют ночью голодные волки... * * * Отец её детей*
(По моим данным, отцом Гали всё же был другой мужчина. — В. Б.), Александр Павлович, не был трусом, он добровольцем ушёл на войну. Его смерть произошла в самую страшную для России военную пору, в августе 1942 года. Валерику только что исполнилось три года. В тот день наши войска оставили Чудово. Оборона по Луге и у Вишеры прорвана. Полчища генерала Лееба со стороны Нарвы, вдоль Волхова и по железной дороге устремились на Ленинград. Ленинградцы поспешно маскировали и спасали свои архитектурные шедевры. Жестокая кровавая борьба, уже без гаврилинского отца, длилась ещё очень долго. Прорыв блокады произошел лишь в 1944 году. Но консерватория Римского-Корсакова, творческая колыбель Гаврилина, была спасена. Так, ради будущего своих сыновей, сражались и гибли наши отцы. По свидетельству командира 187-го полка, отец Гаврилина "погиб верным воинской присяге, проявляя геройство и мужество".
Надо было жить, ставить на ноги своих и чужих детей, они все ещё поступали в детдом. Внизу, в холодных .стенах храма святителя Афанасия, как будто звучали отголоски революции и Гражданской войны, раскулачивания и недавней коллективизации.
Вновь поступающие в детдом сироты были жалки, испуганны и беспомощны. Кожа синюшного цвета, едва не у каждого расчёсы на ногах и ручонках, больны и внутри и снаружи.
...Ах, что будет без неё с её родными птенцами — Валериком и Галей?
Два милиционера, с наганами на ремнях поверх полушубков, торопят, пересаживают её в свой возок, грубо хватают за локти, словно она пытается бежать через всё заснеженное пространство Кубенского озера. Куда ей бежать от двух здоровенных верзил?
Сироты они и есть сироты, но они, сироты, на государственном обеспечении. Специальные люди для них готовят еду, стирают бельё и даже заводят иногда патефон, чтобы они слушали Русланову. Колхозные детки тоже многие остались без отцов. С завистью наблюдают, как детдомовским в праздники дарят гостинцы.
Валерка Гаврилин и сестра его Галя навсегда запомнили эти детдомовские праздники. Родную мать куда-то увезли, её больше нет. Хоть гляди, хоть не гляди в окно. И под окном сидеть Валерке нет времени! Надо учиться писать и читать. Аля Кузина и тётя Склия смотрят за каждым шагом. Совсем, совсем некогда...
Детдом прямо напротив Перхурьева. Лишь перейти улицу. Валерка глядит и думает. Сестра играет в свои куклы. У неё свой детдом, тряпичный. Валерка предлагает ей сделать кошку "директором", кошка не хочет и убегает за печку. Аля принесла что-то поесть. Оладьи? Ура! Ура! Он потчует "директора" половинкой оладьи.
Приходит тётя Склия и говорит, что надо ехать...
Куда? Может, в село? Или... Не в село, не в Кадников, а прямо в Вологду. Сердце у Валерки тук-тут?... Аля Кузина и тётя Склия в суете. Тётя гладит Валерку по голове и плачет. Говорит, что лошадь ещё не запряжена.
Скоро, скоро Валерку и Галю увезут из Перхурьева, в новый детдом. Прямо через дорогу, словно в кино, видно всё Воздвижеиское. Вот в каком уголке русской земли прошло самое раннее детство Гаврилииа! Здесь началось для него "всё первое, всё розовое, всё вербное, всё берёзовое", как выразился вологодский поэт Александр Романов, который не однажды вдохновлял композитора Гаврилииа. Они оба вдохновляли друг дружку, а им в этом подсобляли то бессмертные образы Ферапонтова, то духовные подвиги святого Кирилла, образ коего запечатлен другим Дионисием, подвизавшимся в глухих дебрях па реке Глушице. (Это место наводится чуть севернее города Сокола.) А кто теперь скажет, где и как создавался шедевр русской иконописи "Богоматерь Умиления Подкубенская"? Русские художники, изгоняя из души бесов тщеславия, не подписывали своих произведений. ГЛАВА ВТОРАЯ Школа пессимизма
Знаете, детства-то не было!
Детства-то не было! Галина Смелова (Гаврилина) В тс дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне... А. С. Пушкин
Детство у Валерия и его сестры Гали, разумеется, было. Весь вопрос в том, какое оно было. Любой ребёнок, не имеющий отцовской защиты, является в прямом смысле беззащитным, а не имеющий и матери — беззащитным в значительно большей степени. Не зря существует чёткое определение: круглый (круглая) сирота.
Вникнем, разберём по косточкам великое и незаменимое слово "семья". Семь "я". То есть дитя, отец, мать, два деда, две бабки. И все семеро вместе держат на своих плечах общество, государство, его будущее и прошлое. Какое великое предназначение! Спасало народ то, что семьи были большие, мать и отец растили с помощью родни до десяти и больше детей. Но бед и войн было тоже слишком много... Школа жестокого пессимизма учила Валерку и Галю. Была у них утешительница, это добрая тётя Асклиада. Она приходила по утрам, гладила деток по волосам, вспоминала Бога и жалостно говорила ласковые слова.
Но даже после таких сцеп Валерий позже писал о матери: "Мамочка милая, милая-премилая, драгоценная".
Не мог иначе! Конечно, этот пессимизм пронзительно сказался позднее в гаврилииской музыке. Отчаяние, пережитое в детстве, никогда не исчезает бесследно...
Весть об аресте Клавдии Михайловны мигом облетела всю округу. За что посадили? Вроде бы за полфунта масла, которых недосчитались при ревизии.
Времена были суровые... "Помогла" родня одноногого Афони, который хотел было перебраться от жены к Клавдии Михайловне. Писали доносы... Во всех деревнях об этой истории говорили по-разному: одни винили хозяйку детдома, другие жалели, одна Афонина родня явно злорадствовала.
Сестра Клавдии Михайловны Мария вскоре увезла к себе Галю, Валеру отправили в вологодский детдом. При сборах особенно плакала племянница Склии Аля Кузина, она рыдала навзрыд вместе с тёткой.
Не за себя тревожилась Клавдия Михайловна, больше всего переживала о детях: как они выучатся, как повернётся судьба ихняя? Особенно тревожилась за судьбу Валеркину. За дочку так не переживала, как за сына. Дочку увезут, допустим, родственники, а сынка-то куда поместят? Хорошо, если бы в Вологду, в Ковыринский детдом, к давней знакомой. Дай Бог, чтобы так и вышло. И она горячо молилась...
Вот перед нами двойной портрет: сестра и тётя Валеры Гаврилина. Две счастливо улыбающиеся женщины: одна пожилая и умудрённая, другая совсем юная. Обе с безграничным доверием смотрят на мир, смотрят и улыбаются. Улыбки, правда, неодинаковые. Улыбка пожилой, скорее, полуулыбка, лицо более сдержанно, как бы более скептичное. Зато улыбка юной откровенно жизнерадостна, девочка-школьница полна неизбывного счастья. Какой это год? По всей вероятности, снимок сделан уже после того, как Клавдия Михайловна была посажена в тюрьму "по сталинскому указу". Ах, Боже мой, по какому указу и за что Клавдию Михайловну упрятали в тюрьму?
Недоброжелатели (непонятно, с чьей стороны они действуют) утверждают, что на фото старшая женщина щиплет младшую, юную, чтобы та улыбалась. Но может ли девочка притворяться в такой степени? Да и родной её тёте такие действия совсем ни к чему. Словом, обе красивы и, кажется, счастливы. Женская красота тёти Маруси и девочки Гали слились в одну, неразрывно родственную. Почему же племянница так радостна? Ведь у неё нет ни матери, которая в тюрьме, ни отца. А потому, что у неё есть родная тётя Маруся...
Позволит ли читатель автору сослаться на собственное детство? Никогда не забыть, как учился в шестом классе. Зима, голодно, голодно. В новогодний день 45-го мать принесла мне в интернат гостинец: одну луковицу и одну соломенную лепёшку. Муку из резаной и сушенной в печи ржаной соломы я толок сам, когда приходил домой на воскресенье. Эту "муку" мама мешала с толчёной картошкой и пекла в русской печи. Даже с молоком такой "хлеб" проглатывался с большим усилием. И вот мать за семь километров принесла мне одну такую лепёшку и одну (зато большую!) луковицу. Не помню, как я справлялся с материнским гостинцем... Помню лишь, что было холодно, я болел простудой и грел руки на переменах, стоя в закутке за печкой-столбянкой. Другие ребята бегали по коридорам и соседним классам. Я стоял за печкой, грел руки о еле тёпленькие кирпичи и плакал, так как температурил, был голоден и нестерпимо болел зуб. Я всем существом стремился домой, к матери, к брату и младшим сестрам! А до субботы ещё далеко-далеко...
Следующим уроком должна быть география. Мы (человек 9—10) расселись после звонка по своим партам. Ия Аркадьевна что-то не идёт и не идёт. Наконец пришла. В руках указка, тетрадка с записями и небольшая корзинка. Она положила на стол тетрадку с указкой, а с корзинкой пошла между партами.
О, какой восторг: она перед каждым из нас на парту положила... по целому прянику!
...Много было потом в жизни моей и гостинцев, и всяких подарков! Но до конца дней не забыть тот обычный глазированный пряник. Я бережно спрятал его в карман, ведь есть на уроке нельзя... Учительский пряник, конечно, не мог по сладости сравниться с маминой луковицей. Но материнская луковица и соломенная лепёшка представляются мне нужней и дороже любых пряников.
Не говорите никому, что семья совсем не обязательна, когда есть коллективное (ясли, детсад, детдом, интернат) воспитание детей!
Клавдия Михайловна, живя без мужа, спасла, вырастила-таки двух своих деток! Валерия и Галину. Их нельзя обвинить в чём-либо безнравственном. Галина вспоминает: "Валериком его было и не назвать: всё Ляля, Ляля.
И в деревне так его звали. Он всё время мурлыкал... Праздники бывали, ёлки, игрушки. Он всё сочинял, изобретал, придумывал... Было у нас с Валериком по любимой козе, одна серая, это Валерика, а у меня белая. У него Симка, у меня Розка. Ему надо было, чтобы и молоко ему от своей козы, а мне от своей... Он ведь очень серьёзный был, не по возрасту. Думаете, он часто с нами поиграет? Нет, не часто. Всё читал. А я девчонка, была поменьше, не такая серьёзная. Играем, помню, в художественную мастерскую, кошка у нас была директором... Рисовал он очень хорошо, почему-то больше цветы. Крёстная*
(* Крёстной дети Клавдии Михайловны звали Асклиаду Алексеевну Кондратьеву. Она больше всего запомнилась им своей добротой. Помогала во всём, приглядывала за миленькими Галей и Валериком. "Сиротинки вы мои", — приговаривала она и сама нередко укладывала их спать. (См. стр. 229 из книги В. Гаврилина "О музыке и не только"))
до самой её смерти рисунки его берегла..."
Двое детей остались одни. Надо знать, какие были времена. Идут на Север срока огромные,
Кого ни спросишь, у всех указ.
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз.
Я завтра утром покину камеру,
Уйду этапом на Воркуту,
Там под конвоем, работой тяжкою,
Быть может, смерть я себе найду.
Друзья укроют мой труп бушлатиком,
На холм высокий меня взнесут
И забросают землёй меня замёрзшею,
И сами грустно назад уйдут...
А ты стоять будешь у фото милого,
Платком батистовым слезу утрёшь.
Не плачь, не плачь, хорошая, любимая,
Ты друга жизни ещё найдёшь. Народная песня тех и последующих лет тоже была безошибочна — и по словам, несколько наивным, и по мелодии.
На этом автору стоит остановиться ещё раз. Спросим: что значит русский мелос? Это то, о чём поёт народ. Пусть не все люди, но по крайней мере значительная часть. Песенная народная стихия была когда-то велика, необъятна! Жизнеутверждающая сила этой стихии никому по отдельности неподвластна. Она исчезает лишь с исчезновением самого народа.
Но исчезновения даже самого малого народа либо совсем не бывает, либо она, эта пропажа для мира и земной истории, прошла по указанию Провидения.
Меня устраивает больше первое, чем второе... * * * Как повлияла па творчество Гаврилина трагическая судьба его матери? Об этом очень интересно написал в письме ко мне мой друг, московский композитор Антон Олегович Волков:
"Еще раз внимательно рассмотрев все основные произведения Валерия Александровича, я неожиданно понял, что их всех объединяет одна чрезвычайно важная тема: человеческого безумия! Наиболее сильные и драматически напряженные страницы его музыки связаны именно с изображением человеческих галлюцинаций, каких-то сумеречных пограничных состояний, бредовых видений. Принципиальная новизна его музыкального языка, интонационного строя происходит как раз от необычности воплощаемого образа, в коем явно живут исконные традиции русского психологического реализма Пушкина, Достоевского, Мусоргского (чей образ Бориса написан, по словам современных ученых, с потрясающей медицинской точностью), Чайковского (Мария в 'Мазепе", симфонии), Римского-Корсакова (Февронья из "Китежа"). С другой стороны, это и ощутимое воздействие немецкого романтизма (например, и в
"Любви поэта" Шумана, и в "Двойнике" Шуберта герой тоже сходит с ума). Наконец, это и признак искусства 20 века, где идея изображения человеческих безумств, особенно в западном искусстве, становится самоцелью. Человечеству нравится копаться в собственных мозгах.
Однако, и это чрезвычайно важно, что гаврилинские герои — это близкие нам русские люди, которых немало можно встретить вокруг. И их безумие — это всегда результат трагизма русской жизни, результат гибели русского человека.
Конечно, центральный образ Гаврилина — женщина, у которой погиб возлюбленный. Этот образ, видимо, вошел в сознание композитора еще с военного времени, когда его семья потеряла отца.
Вот героиня "Русской тетради". Ее мысли постоянно перескакивают, путаются. Никогда до конца не ясно, в каком времени, в прошедшем, настоящем или будущем, находится ее сознание (...)
Сперва героиня словно обороняется от настигающих ее ужасных видений, в которых образ зла приобретает образ зимы. Она кричит и стонет: "Не трожь меня, зима, не боюсь я тебя", а потом глухо начинает твердить: "Я жена, жена мужняя", постепенно переходя к торопливым, скороговоркой, подлинно фольклорным заклинаниям тоски: "Повешу тоску на зеленый сук" и т. д. Внезапно врываются грубые звуки городского вальса. Вроде бы женщина вспоминает, как танцевала она когда-то с любимым, но мы-то понимаем, что это смерть отплясывает на костях ее возлюбленного. (Опять явные следы Мусоргского.) Затем у героини наступает полная апатия. В мыслях она "возвращается с прогулки" (не деревенское слово) и, словно бы перед смертью, одевается "в лучший наряд", опять же вплетая в косы кровавую "алу ленту", и отправляется зачем-то снова в поля. Тут она впадает в полную прострацию: неоднократно повторяет, что ей "холодно, холодно", а сама вдруг видит мираж возвращающихся с весеннего хоровода девок с цветами. Она тупо воет, и ужас с новой силой охватывает ее существо, и грозный образ зимы вновь начинает наступать. И уже непонятно, слышим ли мы страшные, нечеловеческие ее вопли, или это звучат голоса одолевающих ее бесовских сил, тем более что в конце части вдруг возникает постепенно стихающий гул колокольного набата.
"Сею-вею" — вначале вроде бы беззаботная народная хороводная песенка, хотя и здесь поется все о том же, видимо, роковом цветке, который, вместе с "веночком", почему-то дарит героиня своему возлюбленному. Постепенно расходясь, героиня впадает в состояние отчаянного сумасбродного веселья: "А я красивая така", и затем, как реакция на минутную вспышку, наступает тревожная апатия с чувством страха перед открытыми пространствами»...)
С подобным явлением мы сталкиваемся и в "Военных письмах", которые можно назвать второй "Русской тетрадью". И если в первом цикле так до конца и не ясно, почему покинул героиню возлюбленный (то ли погиб, то ли ушел к другой), то в "Письмах" все ясно: возлюбленных разлучила война. Здесь реальные картины военных лет: проводы на фронт, ожидание почтальона, недетские игры детей — перемежаются с бредовыми видениями героини, с ее галлюцинациями, в которых она постоянно ощущает среди живых своего умершего друга.
Тема женского безумия с новой силой возникает и в одном из последних произведений Гаврилина — "Песнях Офелии".
Однако самое впечатляющее открывается нам в знаменитых "Перезвонах". Здесь Гаврилин снова обращается к воплощению образов различных бредовых видений, однако, если мы допустим мысль отождествить автора и его героя, то неминуемо придем к выводу о субъективной подлинности его галлюцинаций. Безумие возникает здесь от самой нынешней русской жизни, ужас и неотвратимость смерти ощущаются в этих страшных песнопениях. Уже самое начало — какая-то дикая, бессмысленная скачка, будто дорога на шабаш, повсюду образы бесов. Можно по-разному трактовать понятие "перезвоны", но одно ясно, что это не впечатление от реальных церковных звонов, которые вряд ли в эпоху официального атеизма мог часто слышать композитор (в отличие, например, от Рахманинова или Свиридова), скорее, это некие навязчивые звуки, как образ недостижимого прекрасного света, часто связанного
с воспоминаниями о детстве. Подобно молниям, проносятся в сознании картины далекого прошлого, детские песни, девичьи частушки, колыбельная. Опять вспоминается Рубцов: "сон, сон, сон скоро затуманит всё". Однако во сне вновь появляется сонм бесов во главе со "Страшенной бабой" (уж не реальный ли это образ?) Жуткие предсмертные видения не оставляют слушателя до самого конца "Перезвонов". Вообще, все наиболее впечатляющие страницы гаврилинской музыки связаны с воплощением находящихся за гранью обычного сознания явлений. Это музыка глубокого психологического анализа, обнажающая потаенные, сокрытые углы нашего существа. Она необычайно притягательна, так как, погружаясь в нее, мы соприкасаемся с тайнами нашей собственной личности, испытываем недоступные до поры до времени ощущения. (...)" ГЛАВА ТРЕТЬЯ Где зарождались первые мелодии
Россия, Русь, куда я ни взгляну...
За вес твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы.
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у смутной воды... Николай Рубцов
Исчезает ли русский великий народ? Даже ставить этот вопрос боязно! Господь не разрешает задаваться такими вопросами нам, слабым и грешным, оставим эти рассуждения православным святым.
Впрочем, без личного опыта никак не обойтись.
Однажды на литургии в Андреевском соборе Вологды попробовал и я петь "Верую" — символ веры. И хотя отец дьякон дирижировал довольно сносно и большинство присутствующих пели молитву, лично у меня почему-то ничего не получилось. Почему? Меня поразило это происшествие. В чём дело? Неужели я такой бездарный и лишён музыкального слуха? Душа моя смутилась, я начал вспоминать, как обстояло с музыкой в моей жизни. Припомнил время далёкого детства.
Мать с трудом, но приобрела старенькую гармонь в деревне Дружинине. Я быстро освоил её. Бывало, Анфиса Ивановна ещё обряжается, топит утреннюю печь, а я уже играю и сам пою "Буря мглою небо кроет". Научился играть и под деревенскую пляску, что обернулось для пятнадцатилетнего школьника многими неприятностями. Приходилось часами играть на комарах, причём одно и то же. Дома-то я мог подбирать и "Катюшу", и "По военной дороге", и другие песни, услышанные в детском садике с патефона. Помню, как прекрасно пели женщины на пивных праздниках старые песни. Дух захватывало. Я их, этих женщин, давно умерших, и сейчас вижу, как живых, могу назвать их имена и фамилии. Они имелись в каждой деревне, а деревень-то было семь в одном нашем колхозе. Но ведь в пивные праздники люди ходили в гости за десять-пятнадцать вёрст. Ходили и пели, несмотря на войну, голод и гибель родных людей на фронтах...
Хорошо помню: любил играть и на гармошке, и иа балалайке. Когда уехал в ФЗО и попал на станцию Вохтога, сразу же начал учить поты, играя в самодеятельном оркестре на домре. Научился играть "Во поле берёзонька", "Эй, ухнем!" и ещё что-то.
Не доучился, ноты не освоил как следует. Уехал в Ярославль, так как в Вохтоге не было вечерней школы, где можно было получить наконец аттестат зрелости, чтобы поступить в институт...
Ещё помнится, как брат Юрий, служивший срочную танкистом, прислал нам в Тимониху ламповый батарейный приёмник. Мы всей семьёй и с соседями слушали настоящее радио. (Не то что моё, детекторное.) Слушали и Русланову, и Лемешева, и Шаляпина.
В 1948 году поступал я в Вологодское музучилище. Дежурный преподаватель на стук проверил мой слух, заставил голосом включаться в звучание рояля. Он сказал, что слух у меня есть.
Я, счастливый, уехал на станцию Пундугу, чтобы дома, в деревне, нетерпеливо ждать приёмных экзаменов.
Увы, на приёмных экзаменах я провалился. (Или меня провалили?) Перед целым синклитом в 20—25 человек меня попросили спеть. Но что мог спеть пятнадцатилетний мальчишка, да ещё перед такой аудиторией?
Они решили, что я не гожусь для училища. Не помню, как я приехал на станцию Пундугу, как пешком ещё раз протопал 45 километров. Я разрыдался, когда мать открыла мне ворота отцовского дома. (Самого отца в живых уже не было, он лежал в Смоленской земле.)
Теперь, спустя много лет, я уже не рыдаю, как тогда. Лишь недавно я понял, почему не мог петь молитву в Андреевском храме. Понял после чтения книги В. И. Мартынова "Пение, игра и молитва". Автор, полемизируя с Иакимом Кореневым, пишет: "В процессе молитвы сознание должно превратиться в чистый белый лист, на котором Бог смог бы начертать знаки своего присутствия, преображающие обыденное сознание в сознание обожженное. Для того чтобы воспринять эти божественные знаки, сознание должно освободиться от всех образов и представлений, от всего умодосягаемого...". Автор книги определённо и жёстко отделяет песню, считая её игрой, от молитвы, приводящей к совсем иному общению. "Кто любит мир, в том нет любви Отчей", — цитирует он Иоанна Богослова.
Одно дело игра (песня), иное дело молитва. Лишь с этих позиций надо подходить к пению и русскому мелосу, безжалостно разрушаемому всеми, кому не лень.
Разницу эту я интуитивно почуял очень давно, но осмыслил её совсем недавно.
Надеюсь, читателю теперь понятно, отчего я не смог петь в храме символ веры. Я был, увы, атеистом...
Православная церковь, несмотря на жестокие гонения, всё-таки сохранила свои молитвы. Но сберегла ли свои древние традиции русская песня? Нам представляется, что пет, не сберегла. Ни по количеству, ни по качеству. Впрочем, количество-то в песенной культуре народа нынче отнюдь не страдает, хотя братья Киреевские собрали народных песен значительно больше, чем нынешние собиратели.
Но особенно пострадало качество нынешней песенной народной культуры. И по словам, и по мелодиям. Причин этого не одна, не две, а несть числа. Мы различаем среди этих причин злонамеренные и незлонамерепные.
Порядочно разложению народной песни посодействовало кино. Народ брал из него всё подряд: и дурное, и хорошее. Подражали и гениальным певцам, вроде Лемешева, и средним, вроде Бунчикова, и совсем дурным. И словам, и мелодиям.
Народные песни по радио звучали чаще, чем в кино, однако со временем и их стало меньше. С каждым годом репертуар намеренно сокращался. Интернационализм есть интернационализм. Власть, правда, допускала некоторые послабления: народные песни, родственные русскому мелосу, например, песни украинские и белорусские, звучали чуть почаще.
Поощрялись, далее и слишком, народные песни других союзных республик, но активная пропаганда древних русских мелодий активно же и преследовалась.
Некоторый всплеск интереса к русским песням произошёл у новых композиторов во время Великой Отечественной войны, но было уже поздно. Песни, упоминаемые братьями Киреевскими, канули в Лету. И хотя ни слова, ни мелодии уже невозможно было восстановить, кое-какое оживление во время войны всё же произошло. Песни на слова Исаковского и Фатьянова служили в Великую Отечественную войну нашей общей победе.
В детстве запоминается всё на свете — и дурное, и хорошее. Брат и сестра бегали вместе повсюду. Обследовали все закутки и конуры. Они совмещали с этим обследованием счастливые детские игры. То, что они скрывались от взглядов своих сверстников, от бдительного надзора взрослых, само по себе вызывало восторг! Дети особенно любят хранить свои тайны, секретничают, и очень им хочется прятаться от взрослых. Иными словами, они играют с ними в прятки. А что уж там говорить о сверстниках!
Сестра Галя следовала за братом по пятам — куда он, туда и она, пока ему это не надоест. Он не всегда пускал её следом. Иногда даже и сердился, если она не отставала. Отгонял её, и она плакала от обиды. И её слезы мигом возвращали ему его природную доброту, и они снова бегали вместе. По коридорам, по лестницам, по всем закоулкам и чердакам. Строгость воспитателей делала эти путешествия ещё интересней...
Детей интересовало всё на свете, всё вызывало у них восторг первого узнавания! Они заглядывали даже в отхожее место, которое называлось нужником, или уборной. Какой ужас и отвращение вызывал бездонный вонючий провал куда-то вниз, в пропасть! Скорей прочь.
Вообще, Валера, будучи слишком впечатлительным, подразделял все места на плохие и хорошие, на светлые и тёмные, на свои, домашние, и на чужие, детдомовские. И, конечно, всегда предпочитал улицу, зелёный лужок, если там не было сильного. Галя, сестричка, во всём ему подражала.
И вот дети самой главной начальницы идут "лечить чесноком детдомовских малышей", хотя и сами ещё невелики, и исчезают при появлении матери.
Фантазии сестры и брата сменялись быстро. Инициатива обычно исходила от брата, поскольку он был чуть постарше. Навсегда запомнились каждому не только звуки, но и запахи, например пьянящий запах аптечной ромашки. А вода речная, в которой купались? Она имела особый вкус и запах, чем-то напоминающие голоса женщин, поющих на празднике...
Да, родной перхурьевский дом был светлым и дорогим, хотя и не всегда. С появлением Афони*
(* Помощник, а потом и любовник матери. (Прим. авт.))
даже родная тёплая лежанка была порою противна, но Валера насильно гасил эти неприятные воспоминания. Не станем и мы их касаться...
К озеру Асклиада-крёстная, конечно, детей не пускала. В жару они довольствовались речкой, и для обоих купание в чистой, совсем прозрачной воде было самым радостным событием.
Странное имя дал священник гаврилинской крёстной! В тех местах её звали Склией, на моей родине она звалась бы Склидой. Уезжая в города, девицы с таким именем становились обычно Лидами, Лиями и т. д. Они стеснялись своих церковных имён. На мой взгляд, отречение от своего имени человека нисколько не красит, наоборот. Сначала человек отказывается от имени, данного ему при крещении, а потом и от Бога.
Зеленый лужок, речка, родное крылечко и вид на озеро Кубенское из алтарной части бывшего Афанасьевского храма оставили Валерию Гаврилину самые сильные воспоминания. А доброта Асклиады дополняла эти зрительные картины, без крёстной он не мыслил своего раннего детства. Кондратьева в любви к детям соперничала с матерью Клавдией Михайловной.
Другим светлым пространством в ту пору была для будущего композитора обычная улица, с мальчишескими играми, с "каретами" и всякими колёсами, с игрой в городки (то есть в рюхи), с десятками прочих игр и затей.
Но была у него одна жгучая мечта — о гармошке. Эта, мечта, к сожалению, не осуществилась. Мать, конечно, могла бы купить сыну гармонь, однако считала и второго своего сына будущим математиком, даже Валерием назвала его, как первого, умершего, сына...
Человек мечтает в любом возрасте, вплоть до жизненного конца. Так, учась в Питере, Валерий Гаврилин ни о чём не мечтал так страстно, как о поездке в Перхурьево или хотя бы в Кадников.
Мечтал Валерий Александрович о еде, которая была ему лакомством в детстве. К примеру, о сельских пирогах, так называемых посыпушках и налитушках, со свежей озёрной рыбой. А рогули, испечённые па сочнях? Рогульки картофельные, творожные, пшённые и т. д. О, это уже язык проглотишь! Всю жизнь он вспоминал о рыбниках, просил научиться их печь жену и тёщу, именно пироги с рыбой. Да какие там рыбники в городе! Ни испечь, ни купить свежей рыбы, которая пахнет осокой, чистой водой и ещё чем-то неподражаемо родным, свежим!
А как часто мечтал он пройтись по зелёной тропинке, где трава ещё не вытоптана, трава продолжает жить, а по бокам слева и справа не крапива, а лазоревые свежие незабудки. Да чтобы синело родное озеро или же белела бескрайняя снежная ледяная равнина, по которой он ездил с матерью в лёгких детдомовских санках.
Разве не пропиталась этими снежными и водными запахами вся его музыка?
...Вот как описывает Иларий Шадрин (то ли монах, то ли священнослужитель) картины, открывавшиеся каждому, кто ехал или брёл пешком от села Кубенского в сторону Воздвиженья и Перхурьева:
"Направо, куда первее всего направляется взор, сияет лазурное раздолье Кубенского озера, которое, начинаясь от села Кубенского, по правую сторону дороги, тянется далее, всё более и более расширяясь, пока не сольётся с горизонтом. Это громадное, чудное водное зеркало заключено в роскошные рамки зелени лугов и кустов, среди которых, подобно белоснежным раковинам, виднеются группы церквей и монастырей. И среди этой обширной, прозрачной лазури вдруг иногда покажется рыбачья лодка, как маленькая мушка на громадном стекле, за ней — другая, третья, а всмотритесь попристальнее, окажется и много таких "мушек", то исчезающих, то выплывающих из лона вод.
Подул лёгонький ветерок, поднялись белоснежные паруса, и маленькие лодочки, как чайки, быстро понеслись к Каменному острову, который, как снеговая глыба, как меловая скала, чуть виднеется в синеватом тумане жаркого летнего дня... Это рыбаки поехали "на заметь". Или около противоположного берега из-за кустов вдруг покажется беловатая струйка дыма — то пароход идёт из Сухоны в озеро. Потянется эта струйка, станет расти, расти, и вдруг ясно, точно на близком расстоянии, увидишь белый корпус парохода, на котором хорошо видны и труба, и колёса, хотя расстояние не менее десяти вёрст. Зимой здесь безбрежная, белоснежная равнина, за которою к северу чуть виднеются верхи церквей противоположного берега, а также эта равнина уходит вдаль и сливается с горизонтом. Здесь всё мертво и пустынно. Но лишь только начинается весна — и снова эта пустыня оживает. С грохотом несутся по озеру громадные льдины, то громоздясь, то разбегаясь, по берегу снова засуетятся человеческие фигуры — то рыбаки выпешивают и починивают свои ладьи, пробуют первое рыболовство — ставят верши и мережки. Образовались закраины на озере, наступил вечер — и озеро запылало, зажглось сотнями огней, точно оно и не озеро, а большая широкая река, берега которой усеяны зажжёнными фонарями; это "ходят с лучом" — один из самых красивых способов рыболовства.
От озера взор переходит на берег и упрямо упирается в церковь села Песошного. Переходит он далее влево и останавливается ещё на двух церквах, более отдалённых и слегка задёрнутых тонким туманом, — Воздвиженской и Николаевской, что в Отводном.
Между церквами рассыпаны многочисленные деревни, в которых там и сям пестреют крашеные крыши зажиточных домов и заводов, зеленеют сады, а перед ними на первом плане стоят ветряные мельницы, особенно в подозерье. Отьехал путешественник от Кубенского села версту, поднялся на небольшой пригорок, и перед ним открывается Песошное. Налево, под горою, всего в каких-нибудь ста саженях от церкви, журчит весёлая и прозрачная речка Шепинка, она же и Богородская, через которую перекинут мост и идёт большая дорога".
...Сестра Галя вспоминает: "Ходили мы по речкам около Перхурьева, "изучали край", пока Валерику не надоело. Ходили и в детдом детей 'лечить". Чесноком. Это запомнилось. Услышали: мама идёт. Нас как ветром сдуло!"
Клавдия Михайловна была строгим и требовательным директором. Любовь Ивановна Сонина, и сейчас проживающая в деревне Воздвиженье, рассказала, как, будучи детдомовской медсестрой, трудилась на полях вместе со всем дружным коллективом. Детдому принадлежало пять или шесть гектаров земли. Была на этой земле и пашня, и сенокосные угодья. Приходилось "дамскому коллективу" косить траву, молотить хлебные снопы и т. д.
Вспоминает Любовь Ивановна и про заготовку дров для детдома. Юным девчонкам, кастеляншам, нянечкам и уборщицам, надо было ехать в Запань, на ту сторону реки и озера. Вытаскивали дрова из воды, грузили на бортовую машину, потом везли к Воздвиженью. Душой всей этой компании была, конечно, Клавдия Михайловна, она и ободряла усталых, и подгоняла ленивых. А после распоряжалась привезти обед посытнее и побогаче, чтобы всем надолго запомнились эти дрова.
"Или молотьбу взять, — продолжает Любовь Ивановна. — Вставать надо задолго до свету, кто живал в деревне, тот знает. Идти на гумно, хоть дождь, хоть снег. Она, Гаврилина, в темноте ходит, стучит по раме, вставай, милая, пора идти молотить. Знала, у какого окна я сплю... И про других девок знала... Бежим в темноте к гумну как угорелые".
Зато — сие уже авторская добавка — у детишек в тарелках и суп, и каша были погуще иногда, чем у тех, что жили с родителями. Умудрялись женщины делать всё: и скотину держать, и рыбу ловить, успевали грибов-ягод насобирать.
"Не жалели себя-то... — добавляет Любовь Ивановна. — Вдруг меня на допрос... Милиционера звали забыла как, не русский. Всё время его воротит на директора, это как да это почему. А как я могу сказать то, чего ему записать про неё охота? Говорю правду, не придумываю. А ему-то всё не то надо... Он своё, я своё говорю. Не могла я ему врать! Только жалоб-то у начальников было на неё больше, чем надо...".
Главные жалобы пошли на мать двоих детей, когда пришёл с войны одноногий Афоня Голубков. Хромой солдат выручая директора, когда не хватало девичьей силы или бабьей догадки. Выручал Афоня не одну Гаврилину, а многих колхозных вдов. Он славился мужской хваткой, решительностью. Это видно даже по сохранившимся сельским фотографиям. Этот Афоня и оставался ночевать в доме Клавдии Михайловны...
Надо ли говорить об этом? Может быть, и не надо.
Однако о том, что устроила родня Голубкова (главным образом, родня его законной жены) — об этом сказать, наверное, надо... Доносы во все инстанции были настойчивы и порой смешны. Архивы бесчувственно берегут даже ненужные, лишние бумажки (не будем их цитировать).
Куда важнее сказать о другом, например, о первых опытах музыканта. Мальчишкам-сверстникам Валера не однажды говаривал, что будет сочинять музыку. Мать, каким-то образом узнав об этом, проявила недовольство, запретила ему строить подобные планы. Но ведь не запретишь же соседскому парию играть на гармошке? А сынок только там и крутится, то есть около гармошки. Сельские гуляния с пляской на праздниках от Клавдии Михайловны тоже не зависели. Вспоминая первого сына, она мечтала, чтобы Валерик стал либо инженером, либо математиком... * * * Спустя много лет, когда уже не стало ни матери, ни самого композитора, Ольга Смирнова, заведующая музеем села Кубенского, в районной газете "Маяк" напечатала статью под названием "У пианино горькая судьба".
С небольшими сокращениями приведём текст статьи:
"Имя великого композитора России Валерия Александровича Гаврилина тесно связано с Вологодским краем. Здесь истоки его жизни, отсюда он родом. Его детство — это прежде всего родная деревня Перхурьево, состоящая из нескольких старинных изб.
Из окна дома открывался прекрасный вид на Кубенское озеро, величавый древний храм и дорогу с постоянным потоком машин. По этой дороге он с болью в сердце покидал родные места и по ней снова возвращался сюда, в память своего далеко не безоблачного детства, став уже взрослым, известным человеком.
Здесь В. Гаврилин впервые прикоснулся к музыке. И эти заливные луга впервые услышали его музыку. В детском доме, где работала мать, было пианино. Оно стояло в алтаре бывшего храма. Поднявшись на второй этаж по старинной лестнице, он часами не отходил от пианино.
Много прошло времени с того первого соприкосновения с музыкой. В. Гаврилин стал известным композитором. На звёздном небе одной из звёзд присвоено его имя. Нелёгок был жизненный путь музыканта, его судьбу пытались сломать, но он смог всё преодолеть.
А как же сложилась судьба его первого музыкального инструмента — пианино? Если оно живо, то могло бы стать прекрасным украшением музея в селе Кубенском, где одной из главных будет экспозиция, посвященная Валерию Александровичу Гаврилину.
Чтобы узнать о судьбе инструмента, я отправилась в деревню Перхурьево. Беседую с последним директором спецшколы в деревне Воздвиженье Ниной Павловной Журавлёвой. Её рассказ разочаровал меня: оборвалась последняя надежда найти инструмент. Оказывается, пианино было списано, а всё, что списывалось, подвергалось уничтожению. Бывший директор рассказала, что уничтожали (добивали топорами) даже посуду, если тарелка оказывалась битой или с трещинкой. Такая же участь постигла и пианино. Это было в 1978—1979 годах. Старших учеников позвали помочь в этом варварском деле. Пианино было разрублено на части и выброшено на улицу. Нина Павловна запомнила только то, что пианино было очень массивным.
Мимо вновь восстановленного храма иду к домику Африкана Ивановича Зеляева. Он — одноклассник Валерия Гаврилина. "Раз пианино было уничтожено, возможно, где-то здесь валяются его части, — размышляю, — хотя... вряд ли, ведь столько лет прошло".
Африкан Иванович подтвердил мои худшие опасения: всё было разломано и выброшено на свалку. Он припомнил, что какая-то штука от пианино ещё год назад лежала за домом.
...Небольшой ноябрьский морозец крепко схватил в свои объятия всё, что было погребено под кучей картофельной ботвы.
Вот такая печальная участь постигла первый музыкальный инструмент композитора Валерия Гаврилина.
О. Смирнова".
Откуда появилось пианино в разрушенном снизу доверху православном храме? Нашествие безбожников, равносильное нашествию иноземцев, разорило не один храм села Воздвиженья, Этот сатанинский набег смёл с лица земли тысячи храмов, ничего не осталось от целых монастырей. После осквернения алтарей власти превращали церкви и храмовые здания в приюты для умирающих стариков, в лагерные колонии для бездомных юных воришек, в жильё для взрослых увечных, для инвалидов с рождения и увечных.
От села Кубенского до Новленского, от Новленского до Никольского Торжка падали с куполов кресты, то и дело тяжко бухали о землю могучие колокола. Их крушили и добивали кувалдами уже на земле. Под предлогом, что нужны подшипники для тракторов, лишилась Русь целебного колокольного звона, превратилась в пустынную безъязыкую землю. Затянуло цепким кустарником веками удобряемую навозом пашню, заросли осиной и елью обширные лесные и пойменные луга... И так на десятки вёрст вдоль всего озера, по обе его стороны.
Но деревни Перхурьево и село Воздвиженье уцелели. До сих пор по праздникам можно услышать переливчатую гармонь и в Перхурьеве, и в селе Воздвиженье. Церковь Воздвиженскую восстанавливают, завезены штабеля кирпича. Но как тут не вспомнить русскую пословицу: "Шей да пори, и не будет пустой поры"?
Даже при луне и при звёздах сверкающая медь вновь возведённого купола не заменит его прежнюю кровлю, а лишь ещё больше высветит наши грехи, наше предательство Креста, нашу теплохладную веру в Христа Спасителя.
Как не заменит яркая обновлённая фреска древнюю живопись. И выносная реставрированная Подкубенская всё равно останется без ручки, которая отпилена в годы бесовского разгула. А может, и не сожгли Подкубенекую в какой-нибудь бане или печке, потому что ручка-то была отпилена... ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ Под новую кровлю
"— Знаешь, там нет конца...
Нет конца... А мы, идиоты,
так никогда и не узнаем этой тайны.
— Пожалуй! Но не лучше ли любоваться, чем знать?" (Из разговора Левитана с Коровиным,
когда они оба смотрели
в бесконечное синее небо)
В одной из своих проповедей Иоанн Златоуст заметил, что "душа, объятая печалью, не может ничего здравого ни говорить, ни слушать".
День 15 марта 1950 года был для детей Клавдии Михайловны Гаврилиной самым печальным. А так хорошо, так счастливо начинался март, этот уже почти весенний месяц! Совсем неожиданно прилетели в Псрхурьево скворцы, и Валерик вместе со старшими ладил скворечники. Снег в деревне то отмякал в полдень, то вдруг по утрам становился твёрдым настом. Иди по этому певучему снежному полевому полу куда вздумаешь! Правда, сестра Галя не видит и не слышит, как звенит этот чудесный снежный наст, она любит поспать подольше. Не слышит она по утрам и тетеревиных токов. Где они так урчат? То ли в лесу где, то ли прямо на озёрном льду. Это урчанье очень похоже на урчанье кота, когда ему тепло и хочется дремать на одеяле Валерия. И школьные оценки чуть не все "пять", и у мамы настроение весёлое, потому что ей предлагают переехать в Устье — большое село за озером. Там, оказывается, тоже детский дом, только больше...
Но всё рухнуло в одночасье. Одни родные люди могли бы в точности, с примечательными деталями, рассказать о Валерии Александровиче, о его детской поре и отроческой, о его юности и возмужании! Но родных у него лишь сестра Галина, да и та вдруг неожиданно замолчала, замкнулась и не хочет ничего рассказывать. У женщин настроение меняется внезапно. Но когда оно меняется так резко, и причём решительно, тут впору недоумевать и разводить руками. Хотя раньше Галина Александровна рассказывала живо и образно: "В Перхурьеве было семь домов. Коля Дворников, сосед, играл на гармошке... А расставание с Валериком я плохо помню. Занималась отъездом нашим мамина сестра Мария Михайловна. О нашей беде ей сообщила крестная Асклиада Алексеевна. Сначала Валерика отвезли в детский дом, потом мы с тётей уехали в Куйбышев...".
Воспоминания всех женщин, с коими общался Гаврилин, окрашены специфически "дамским" отношением к определённым фактам. Вот хотя бы взять и первую любовь Валерия Александровича. Но где Римма Клишанец (она же Смелова) искренна, где не совсем, это не ясно.
Всем известна "мужская лень". Помешала она, к нашему несчастью, запечатлеть для потомков то, что знают о Гаврилине и мужчины. Пока один лишь Владислав Александрович Черпушенко, народный артист и главный дирижёр Питерской хоровой капеллы, сказал публично о Валерии Гаврилиие. И то очень кратко.
Но вернёмся к печальному детству нашего героя. Маленькую сестрёнку увезли далеко. Крестная Асклиада осталась в Воздвиженье. Мать в тюрьме. Отец в могиле... Вот общий финал краткого, можно сказать, беззаботного детства!
Теперь ждёт Валерика неизвестно что... Хоть и ведено матерью строго-настрого определить Валеру только к "Харлампиевне", да что из того? Впрочем, этот вологодский детдом считался лучшим, образцовым по всей области... Директором в этом детдоме была Анна Харлампиевна Романова — женщина добрая, очень хозяйственная, всеми силами старавшаяся накормить, хоть немного приодеть, а главное — выучить беспризорных деток. Ах, не напрасно Достоевский так восторженно говорил о русских женщинах. Он утверждал, что Россия целиком стоит на женщинах. А в письме Герасимовой (от 7 марта 1877 г.) он сказал прямо, что "быть доброй женой и особенно матерью — это вершина назначения женщины". А разве не вершина быть матерью сразу нескольким десяткам сирот?
Двухэтажный, когда-то помещичий дом находился на окраине Вологды рядом с парком. Старые деревья после революции и Гражданской войны начали болеть и сохнуть, пруды захирели. Дом власти превратили в детдом и назвали его Октябрьским.
Елена Васильевна Копышева, бывший инспектор отдела народного образования, вспоминает:
"В детдоме, в котором жил Гаврилин, было семьдесят пять человек, три группы. Внизу была начальная школа, с пятого класса начинали ходить в другую школу. Этот детдом лучший в области. Воспитанников устраивали куда получше... В подсобном хозяйстве имелось своё молоко, по литру на каждого, обеспечивались дети своими овощами. Кур, гусей было много. Директор и завуч работали каждая больше чем по сорок лет. Жизнь всю отдали, обе семьями были ие обременены...
В посёлок Устье эвакуировали детский дом из Полоцка (Белоруссия). Кончилась война, родители детей увезли, и персонал решил уехать обратно. Клавдию Михайловну мы попросили съездить в Устье, познакомиться. Но её забрали. И судили строго...
В Октябрьском детдоме ночная няня Маруся однажды мне говорит: "Ой, Елена Васильевна, вы, поди, и не знаете, что Валерка-то сделал... Завуч если и услышит, то ничего, а ведь Анна Харлампиевна говорит: "Ночью спать надо", а он отвечает: "А я музыку буду составлять!" Много раз по ночам играл...".
В июле 1977 года Валерий писал Копышевой из г. Опочка:
"Дорогая Елена Васильевна! Несколько месяцев не дотрагивался до получаемых писем, т. к. очень болел, а затем навалились дела. Теперь обнаружил Ваше письмо, на которое нужно было, по-видимому, ответить срочно. Если я не опоздал, то рад буду сообщить основные свои сочинения (па втором листе). Про то, что Вы были у мамы, мне рассказала моя сестра, которая недавно приезжала. Она была очень расстроена этой Вашей, как она сказала, неудачной встречей с мамой — мама очень плоха. После трёх операций под общим наркозом у неё пропала память, и она забывает простейшие вещи, людей, иногда не ест по забывчивости. Так что Вы на неё не обижайтесь, пожалуйста. У меня со здоровьем сейчас получше, но очень устаю от работы, и сон неважный. Очень соскучился по Вологде и мечтаю побывать, может быть, удастся приехать с концертами, а может и так просто — передохнуть. Сын мой уже кончил 10 классов и поступает в Технологический институт.
Вот кратко о себе. Желаю Вам крепкого здоровья и всегда хорошего настроения. Письмо Ваше для меня — голос родины. Спасибо Вам огромное. Ваш В. Гаврилин".
На втором листе письма приведён список произведений.
Вот с какой интенсивностью трудился Валерий Александрович.
Оперы: "Моряк и рябина", 1966; "Повесть о скрипаче Ванюше" (по Г. Успенскому), 1972; "Пещное действо", 1969; "По Дону гуляет" (по сюжету народной песни), 1975.
Симфонические сочинения: "Сюита № 1", 1967; "Сюита № 2", 1969, "Сюита №3", 1971; "Тараканище", 1963; "Малявинские бабы", 1973; "Вальс" (симфонические вариации па тему Л. Толстого), 1975; "Маленькая увертюра", 1964; "Апофеоз" (к 60-летию Октября), 1977; "Дивертисмент-шутка", 1976.
Вокально-симфонические: "Скоморохи" (оратории на стихи В. Коросты-лева) , 1967; "Военные письма и поэмы в 12 частях" (на стихи А. Шульгиной),
1972; "Земля" (вокально-симфонический цикл на стихи А. Шульгиной), 1974; "Заклинание" (кантата на стихи А. Шульгиной), 1977.
Камерная инструментальная музыка: 4 струнных квартета, 1960, 1962,
1964. 1966; "Поэма для скрипки и фортепьяно", 1963; "Соната для скрипки и фортепьяно", 1964; "Сочинения для фортепьяно в 2 и 4 руки", более 100 пьес,
1965. 1976.
Камерная вокальная: "О любви", цикл на стихи В. Шефнера, 1958; "Сатиры" на слова Григулиса, 1959; "Немецкая тетрадь", на слова Гейне, № 1, 1963, № 2, 1972, № 3, 1976; "Русская тетрадь", вокальный цикл в 2-х частях, 1973—75; "Вологодская тетрадь", вокальный цикл, 1977 (первое исполнение в сезоне 1977—78).
Сочинения для хора: "Дон капитан", "Припевки", "Перезвоны", "Большая фуга" и др.
Песни: всего около ста песен.
Музыка к спектаклям: 52 спектакля в театрах Москвы, Ленинграда, Севастополя, Минска, Иркутска и др.
Музыка к кинофильмам: "На диком бреге", "В день свадьбы", "Счастье Анны", "Месяц август", "Театральные истории", "Василий Меркурьев" (тел. фильм.), " Источник ".
Но вернёмся к детству и к первому гаврилинскому "увлечению". Ставлю это слово в кавычки, поскольку в таком возрасте называть интерес к человеку другого пола любовью нельзя. А может, как раз в таком возрасте рождается у мальчишек истинная любовь, хотя объектом её обычно бывает человек чуть постарше, например, если мальчишка учится в третьем классе, то ему почему-то нравится пятиклассница. Именно так происходит со многими.
Так или иначе, жизнь наладилась... Он был таким же восторженным мальчишкой, какими бывают все в его возрасте. Бывали в этот период и счастливые дни, например те, когда удавалось встретить девочку Римму. Или когда можно было играть на инструменте, стоявшем под замком в нижнем этаже.
Бывшая детдомовка Римма Анатольевна Клишанец живо вспоминает совместное пребывание под одной казённой крышей с Валерой Гаврилиным. Она признавалась Валерию откровенно прямо: "Я маму не любила". А Валерик говорил: "Нет! Маму надо любить всегда, где бы она ни была, потому что она мама!"
Мать девочки Риммы тоже находилась в заключении. Но какое разное отношение к матерям и, вероятно, вообще к людям!
Римма Анатольевна убеждена, что Валера был в неё влюблён, иначе не упоминала бы в своих рассказах такие подробности и документальные данные.
Однажды летом в сенокосную пору пришлось детдомовцам заготавливать веники. -Валера тогда почувствовал себя рыцарем, заступником девочки Риммы.
Р. А. Клишанец рассказывает: "...Нас привезли в лес, на поляну, парочками рассадили. Его посадили со мной. Он мне надоел, я не хотела с ним общаться, уже любила с теми, кто постарше: "Опять ко мне пришёл? Уходи от меня. Уходи, я буду с другими..."
Виц берёзовых нам принесли, осталось собирать, связывать. Солнышко, лужайка — красотища, тогда мы этого не понимали.
Подаёт мне веточки. Сидел, всё на меня смотрел, чтобы я не была сердитая. Что-то спрашивал. Все сделали норму, мы одни не сделали, и он был виноват. (На этом месте Римма Анатольевна смеётся.) Он был преданный, но самолюбивый, недоверчивый...
У меня родных, чтобы могли проведывать, не было. Пришла какая-то женщина, пригласила в садик перед домом, где скамеечки были, и подарила большое Красивое яблоко. Красное. Такого я и в руках не держала.
Один воспитанник из-за кустов выглядывает, другой. Надо было дать откусить всем, так было заведено. Я откусила тоже: сочное, сладкое, мякоть розовенькая.
И бежит Валерик. Прибежал, когда всё яблоко было обкусано, осталась одна сердцевина. - А мне? Что ж ты не оставила?" Я растерялась. У меня и сейчас такое бывает, вроде этой истории с яблоками.
Он говорит: "Ко мне тоже придут, я угощу тебя". Прошло какое-то время, кто к нему пришёл, не знаю. В этом же садике играли. Кричит: "Римма, иди скорей!".
Но яблоко у него стащили или выхватили. Стоит на крылечке, все разбежались. Глазами хлопает: "Я ничего тебе не оставил, даже мне откусить не дали..."
Не знаю, до этого или позднее произошла история на сеновале. Валерий подбежал к Римме и восторженно сообщил, что вот-вот все поедут на сенокос, и предложил ей остаться утаптывать сено в сарае, который стоял в парке. Валерик выхлопотал Римме освобождение от сенокоса, и оба остались уминать сено. "Сарай высокий, — рассказывает Римма Анатольевна. — Сена до потолка (наверное, до крыши, так как в сараях потолков не бывает. — В. Б.) С нами была женщина, которая следила, чтобы не хулиганили, и встречала возы с сеном. Она открыла ворота и села на табуреточку. Я еле забралась наверх, а он так прытко, быстро, видимо, был здесь раньше, знал, что к чему. Подал мне руку и кричит: "Не бойся, не бойся, не провалишься!" Вытянул меня наверх, мы и давай прыгать, визжать, кричать. Я по углам часто проваливалась. Я резвая, эмоциональная, мы песни какие-то кричали, лбами стукались. Устали, развалились, руки раскинуты. Женщина: "Нет, вам лежать нельзя!". Мы опять прыгать, мне нравилось это баловство. Он говорит: "Давай поцелуемся". Он — мамочкин, любовь в нём пылала, и он оставил её для меня, с другими не общался. Я говорю: "Поцелуемся!". А женщина: "Нет' уж, этого вам делать нельзя".
Умяли сено, задание выполнили. Он говорит: "Больше мы с тобой не встретимся". Мне всё равно было, встретимся или нет. Вышли из сарая, женщина говорит: "Всё, больше вам такого никогда не будет, разбегайтесь в разные стороны".
...Он о чём-то уже знал, как раз решалось, куда его пошлют. Как Валерик учился, не знаю, мне было не интересно, он был младше. Иван Павлович нашёл его талантливым. Если кто учился плоховато-слабовато, не был одарён танцами, пением (так выразилась Р. А. — В. Б.), могли отправить в другой детдом или в ФЗО. Иван Павлович и при "трёшках"-"двушках" не дал бы погибнуть, заставил бы поступить в музыкальное. Чтобы отправить в ФЗО, такого не могло быть. Он даже меня просил поступать в музучилище после семи классов. Меня оставляли кончать десять, но мне так надоело в детдоме. Не передать, как я поступала в Кирилловское культпросветучилище. Иван Павлович приезжал проведывать..."
Далее довольно сумбурно Римма Анатольевна рассказывает, как уезжала в Кириллов, как приезжала на каникулы:
"Антонина Павловна опять поставила меня танцевать, охала: "Ой, что с тобой стало!" И он пришёл в класс, сидел уже взросленький, смотрел. У меня не было такой привязанности, как у него ко мне, и я больше с ним не общалась: Мне говорят: "Подойди к нему, он переживает!" Как я подойду к мальчику, если он не подходит? Уезжала в училище, завуч меня просит: "Не говори никому, что завтра будешь уходить из детдома". Я у нее в кабинете последние минуты была, она сказала: "Иди, попрощайся с ним, он в пионерской комнате". Он там один сидел, в этой комнате, нахмуренный. Попрощалась. Что-то сказала, буркнула, мол, уезжаю. Зашла и вышла. Не было никаких бесед, ничего. Приезжала па каникулы, но чего-то уже не было интереса. Я не подходила, не было интереса. Мне 15—16 лет, и как он ушел из детского дома, не знаю...".
Вот и вся детская любовь с поцелуем на сеновале! Не ахти что, скажем прямо...
Не будем продолжать "любовную" историю Валерия Гаврилина со слов Риммы Анатольевны, хотя эта история и имела продолжение. В истории этой больше дамских жалоб и выгораживания женского "я". Как встретились они па фестивале, как пекла Римма Анатольевна пироги — это, мне кажется, не совсем и не для всех интересно. Женщин такого типа надо слушать с разбором — это во-первых. Во-вторых, сам Валерий об этой истории не сказал почти ни слова, говорили только другие, например Томашевская. Все женщины, более-менее близкие к великому композитору при его жизни, почему-то в своих воспоминаниях заметно "тянут одеяло на себя". Впрочем, не будем слишком строги к Татьяне Томашевской, которая была первым учителем музыки у Валерия Александровича Гаврилина.
Весьма интересны её воспоминания, касающиеся детского дома в Вологде и пребывания в нём юного Валеры Гаврилина ("Роман-газета XXI век", 1999, №7):
"Наша первая встреча с Валериком произошла на репетиции хора. Пели очень выразительно, что — точно не помню, но какое-то лирическое произведение, старательно, слова знали назубок, а вот лица были, как помню, какими-то безразличными. Только мальчик, стоявший в верхнем ряду, пел так увлечённо, с такой самоотдачей, с такой погружённостью в исполняемое сочинение, что казался опущенным в вакуум. Он не сводил глаз с руководителя, ловил каждый жест, каждый взгляд. Спели, и начался обычный ребячий шум, разговоры, а он стоит молча с одухотворённым лицом...
В следующее воскресенье была следующая репетиция. Закончилась она, и ребятишек как сняло, враз все убежали. И вдруг как из-под земли выросла маленькая фигурка. Стоял и радостно улыбался до ушей. Это был тот самый "музыкальный мальчик" из верхнего ряда нашего хора.
— А можно, я у вас что-то спрошу?
— Спрашивай. А как тебя зовут?
— Валерий Гаврилин. А мог бы я научиться играть на пианино? — И совсем застенчиво: — А могут меня взять в музыкальную школу?.
Было видно, как нестерпимо хочется ему слушать, петь, самому играть на инструменте.
Помню наше самое первое занятие. Передо мной был смышленый, умный маленький человек, с которым было просто интересно разговаривать. Я начала рассказывать ему о музыке. Слушал сосредоточенно, жадно.
Иногда на уроке Валерик рассказывал мне, как любил слушать народные песни, которые пели вечерами вместе с его мамой женщины. Я спросила его, помнит ли он хотя бы одну из этих песен. Подумал и спел две песни по одному куплету. Песни протяжные, красивая мелодия. Пел он тихо, очень выразительно, внимательно слушая себя.
Приехал из Ленинграда профессор Ленинградской консерватории Иван Михайлович Белоземцев. Он проехал три области — Мурманскую, Архангельскую и Вологодскую, чтобы отобрать для десятилетки при консерватории одарённых детей...
Гость из Ленинграда взял ноты Валерика, сел за пианино и заиграл "Красавицу рыбачку". И вдруг, к моему ужасу, прозвучал Валерочкин спокойный, но твёрдый голос: "Извините, я хотел бы сыграть сам. Может быть, вы не всё поймёте в моих нотах". Мне показалось, что замечание было не слишком деликатным. Но профессор заулыбался, шутливо поднял руки вверх в знак капитуляции перед молодым композитором и сказал: "Сдаюсь, сдаюсь, молодой человек. Садитесь".
Профессор просил играть ещё и ещё...
Добрую весть о результатах принесла Т. В. Геницинская: "Ваш ученик очень понравился, но поймите, нас всех беспокоит одно: где он сил возьмёт, чтобы догнать остальных? Вы сами прекрасно знаете, что большинство детей начинают учить ещё дома с четырёх-пяти лет. И сколько лет они потом учатся до училища! А он занимается всего два с половиной года! Хотя ребёнок действительно феноменальный". ГЛАВА ПЯТАЯ Опять интернат! В учении
Город шумный, город бедный... А. С. Пушкин
Приодели мальчугана как могли, выделили ему сотню бюджетных рублей, и под наблюдением отправился он в Питер. (Могли бы и побольше деньжат найти, ведь не куда-нибудь отправляют, а в консерваторию...) Но витали сомнения: как он закончит десять классов, поступит ли после десятилетки в консерваторию ?
Мы даже не знаем, кто сопровождал Валеру в большой город... Никем, по-моему, об этом ничего не записано. Но многое, хотя и не всё, можно узнать из книги, составленной Натальей Евгеньевной (вдовой Гаврилина) и В. Максимовым. Одно сейчас можно утверждать с достоверностью: Иван Михайлович Белоземцев не ошибся в Валерии. Так хочется поклониться ему в ноги, если он еще жив!
Поезд шел по тем местам, где была могила отца Александра Павловича. Проехали Волхов. За вагонным окошком нет-нет да и проплывали следы минувшей войны. То сожжённая деревенька, то ржавеющий вагонный остов — остаток разбомбленного когда-то состава. Ритмично выстукивали колёса под полом мирного пассажирского поезда. И слух, и зрение юного вологжанина напрягались по мере приближения к великому городу. Вспоминалось тихое Перхурьево, сестрица, уехавшая на мамину родину вместе со строгой тётей Марией Михайловной. Знает ли крёстная Асклиада, куда и зачем едет он, Валерко Гаврилин? (Крёстная всегда кликала его по-деревенски.) Чует ли она, что он уже подъезжает к Ленинграду?
"Говорят, что наказание воспитывает раба. Это неверно. Раба воспитывает несправедливость. Несправедливость — это угнетение". Такую мысль записал Гаврилин на каком-то случайном листке бумаги ещё до первого своего инфаркта. Мысль абсолютно точна и справедлива.
...Громадная стеклянная крыша, под ней сразу несколько поездов, одни прибыли и стоят, другие отъезжают. С вокзала почти сразу прошли и спустились в метро, под землю.
И началась новая, ленинградская жизнь. Жизнь несколько голодноватая, но интересная. Всё было новое! Однако кое в чем 13-летний Валера уже разбирался... Размышлял он, как взрослый мужчина, даже о политике, не говоря уже о музыке. Точила его боль и тоска по матери. Какая сила спасала его в те юношеские годы? Кто не позволил его душе очерстветь, обозлиться и тем не направить его путь в бесплодный тупик? Одно ясно: эта сила таится отнюдь не в людях...
В книге "О музыке и не только", изданной санкт-петербургским издательством "Дума", на первой же странице слова Гаврилина и стихи о матери, причём заключенные в рамку из жирных черных линий. Учась в Ленинграде, он не забывал о ней, ездил на свидания в колонию. На второй странице запись почти мужская, взрослая, несколько даже писательская. Чувства сравниваются с папиросами, кои "вынуты и сильными затяжками использованы".
Следующая запись о Сергее Есенине: "Эрлих был знаком с Есениным. Спросить Н. Н. Н." Просвещённый читатель знает, кто такой Эрлих. Это один из виновников расправы над Сергеем Есениным. А кто Н. Н. Н.? Это Неля Наумовна Наумова — преподаватель литературы в школе-десятилетке при Ленинградской консерватории. Об этом сообщается в сноске.
Страница вторая завершена чёрными линиями нотного стана и нотами, вероятно, на тему блоковских "Двенадцати".
Уже по первым страничкам этой книги можно судить об интересах юного Валеры Гаврилина.
Надолго ли хватило ста рублей? Да ещё в Питере, где столько соблазнов, при том, что Валера курил. Когда он пристрастился к этому зелью, неизвестно. Может, ещё в Перхурьеве, может, в Ковырине. Образцовый для области детдом вовсе не означал образцовое поведение каждого детдомовца. Или же Гаврилин приобрёл эту привычку позже, уже в Питере?
Хорошо ещё, что одежда была чиста, бельё заштопано, шевелюра подстрижена.
Он сдал вступительные и был принят в десятилетку. Взяли прямо в 6-й класс. "Всё было сложно, — говорит Томашевская. — Он опять занимался ночами. На консультации надо было ходить через весь Ленинград. Или ездить". А вот что пишет дочь композитора Шнитке Ада, учившаяся с ним вместе: "...такими темпами продвигался!.. И ведь он всех догнал, всех догнал!" Она, разумеется, знала, что значит подготовка детей к учёбе в консерватории. Любвеобильные родители готовили к этому с младенчества.
Да, бежать вприпрыжку за детками композиторов действительно не каждому под силу. Зато здесь впервые никто не ругал за ночную игру на рояле. Во всяком случае, Валерий был хмур и неразговорчив, когда приезжали навестить его девушки-детдомовки. Мы мало знаем об этом периоде его жизни.
Кто окружал его, кроме воспитательниц? Из одноклассников мы знаем лишь тех, кто значился в редколлегии стенгазеты. Сделаем небольшую выписку из книги, тем более что в этой записи указана дата:
"Газета. Встретил живую поддержку. 1-й номер газеты вышел в понедельник, перепечатана на машинке 30 апреля 1957 г. Редактор Горелик. Редакция: Симонов, Сигитов, Гаврилин, Тарасенко. II номер — 20 мая. Редактор Горелик. Редколлегия: те же и Биркан, Угорский. Колонки 13,5 х 31,5".
Кто из упомянутых учащихся был ближе всего к Валерию? Это нам неизвестно, зато известно, что именно стенгазете он был обязан знакомством с будущей женой. Но об этом в другой главе.
Т. Д. Томашевская говорит, что "у него были замечательные друзья". Но друзей-то много не бывает в таком, да и не только в таком возрасте... Многочисленность друзей говорит как раз о неразборчивости и даже всеядности человека. А к такому разряду людей уж никак нельзя отнести покойного В. А. Гаврилина. Так что нам пора бы определить, кто был его самым близким другом. Знаем, как много "друзей" объявляется по смерти какого-либо мало-мальски известного человека. Давайте лучше подождём, быть может, со временем он сам объявится, этот человек. И преподнесёт общественности подробные и нелицемерные воспоминания.
Томашевская вспоминает про "одержимых" в связи с музыкальным исполнением учащимися Гайдна, Бетховена, Моцарта. "Одержимые" считали, что надо всё играть самостоятельно, иначе нечего и учиться. "Брали в библиотеке клавир, скажем, Гайдна, и вечером, ночью шли в библиотеку. Двое переписывали ноты, один мыл пол. Мыл потому, что иначе им не разрешалось брать ноты".
Беда была в том, что мать Валеры — Клавдия Михайловна — упорно не хотела музыкального образования для своего сына. Она мечтала, чтобы он стал инженером. Поэтому Томашевская настойчиво добивалась визита в материнское узилище, то есть в Вологодскую тюрьму.
Это предприятие подробно описано самой Томашевской. Муж Томашевской служил в госбезопасности, что, по-видимому, и содействовало ее визиту в тюрьму. Ее пустили туда со второй настойчивой попытки, и начальник тюрьмы встал на ее сторону. Клавдия Михайловна расплакалась и дала, наконец, согласие отправить сына в Ленинград, чтобы продлить его образование.
Но жизнь в интернате, конечно, не ограничивалась одной музыкой. Судя по всему, в среде "одержимых" присутствовали и книги, следовательно, наверное, и поэзия.
Так или иначе, Валерий Гаврилин сам писал стихи... По словам В. Г. Максимова, "Гаврилин был такой же литератор, как музыкант. Нежный и трагический, пророчески-мудрый и озорной, добрый и горестный, светлый и милосердный... и вдруг убийственно-ироничный, гневный, как Ангел Господен, когда речь идёт о святом: о Родине и даре Божьем".
Да, Валерий Гаврилин, я согласен с Максимовым, был полноценным литератором, если б "не бы да кабы". Как не вспомнить эту русскую приговорочку... Вот, к примеру, его стихотворение о старом кресле, оно как раз того, школьного, интернатского периода: Старое кресло... Облезлая кожа.
Чёрные шляпки гвоздей.
Смотрит уныло потёртою кожей
На важнозадых людей.
Старому грустно... Болит поясница.
Руки болят, ломота в ногах.
Пузо ввалилось, задаром оставив
Жир в человечьих задах...
Но даже такую жизнюху тоскливо
В тесном углу доживать раскорякой,
Плесенью старой для нового мира
Быть.
И скучать.
И от старости крякать. ...Хорошо помню абитуриентов Литературного института. Не всякий из них писал стихи, подобные этим, гаврилинским.
ФЗО, ремесленное училище, техникум, институт — такие альтернативы стояли перед многими, а тысячи и тысячи сирот не получили даже обязательного семилетнего образования.
А другие погибли в блокаду, скажет оптимист-демократ. Что скажет демократ-пессимист, не будем гадать. Кажется, демократов-пессимистов не существует в природе... * * * Юный композитор, как мы выяснили, в Гаврилине проявился уже в школе-десятилетке. Теперь мы приступаем к юношеским, консерваторским годам. В книге "О музыке и не только..." читаем: 1958 г. — учился в консерватории. До 1963 г. на теоретико-композиторском факультете, в классе композиции у профессора О. А. Евлахова, с 1963 г. на том же факультете на отделении народного творчества (фольклор), педагог Ф. А. Рубцов. 1959 г. — женился. 1-я фольклорная экспедиция по Псковщине.
Далее книга подразделяется на такие периоды, которых и мы, хотя и не буквально, будем придерживаться: 1965—1969; 1970—1979; 1980—1989; 1990—1998. Последняя запись звучит так: "Я живу на своей родине, я охраняю и сохраняю ее музыку".
Составители почли своим долгом закончить книгу печальной датой 28.01.1999 и коротким словом "скончался". Какими болезнями болел Валерий Александрович, об этом ничего не сказано (так ли уж он был глух, как утверждала его жена, не давая никому говорить с ним по телефону?), почему произошли первый, второй инфаркты? Всё это осталось неведомым (в книге зафиксированы лишь годы, когда случился первый, затем второй инфаркт). ГЛАВА ШЕСТАЯ Женитьба. Практика
Что внезапно с ней свершилось?
Тоскованье ль улеглось?
Сокровенное ль открылось?
Невозможное ль сбылось? А. К. Толстой Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный. А. С. Пушкин
Не без робости я начал главку с таким названием. Почему? Здесь в нашем повествовании появляется еще один человек, сыгравший важную роль в жизни Гаврилина. В 1959 г. он женился на Наталье Евгеньевне Штейнберг, которая была старше его чуть ли не на десять лет. Известно, что она очень болезненно относится к публикациям о покойном муже. Наталья Евгеньевна сама могла •бы рассказать о Гаврилине намного больше, чем кто-либо иной. Она уже и сделала много — издала книгу о муже, причём весьма серьёзную книгу. Выразим же благодарность ей за это. Не каждая на такой подвиг осмеливается.
Создаст ли Наталья Евгеньевна собственные, полновесные воспоминания
о муже? Имеем ли мы право судить об интимных отношениях умершего человека и его супруги? Мне кажется, не имеем.
Поэтому воспользуемся тем, что говорила о своем знакомстве с Гаврилиным сама Наталья Евгеньевна. Писателю Алексичеву она, например, рассказывала:
"И вот мы стали встречаться, встречаться, я над этим не задумывалась серьёзно. Потом он признался в своих чувствах. Я засмеялась: "Ты учишься на первом курсе, я не ахти зарабатываю, мама немного зарабатывает. Бьёмся как рыба об лед". — "Будем вместе биться!"
Конечно, он был мне симпатичен, выделялся среди других, был интересным человеком. С ним можно было говорить о литературе, знал хорошо Толстого, Гоголя, имел свои суждения. Я не чувствовала в общении с ним неравенства.
Он знал много о музыке, я знала много другого, получалось интересно. Влюблена? Я так не сказала бы в то время".
("Валерий Гаврилин". Записал на видеоплёнку в августе-декабре 1999 г. Александр Алексичев.
г. Вологда, 2001 г.)
А вот отрывок из другого интервью, которое Н. Е. Гаврилина дала совсем недавно сотруднице газеты "Вологодские новости" Елене Зубковой (18—24 февраля 2004 г.):
"...Вы помните, как познакомились с Гаврилиным?
В пятьдесят шестом году я пришла работать воспитателем в интернат при специальной музыкальной школе-десятилетке. Гаврилин учился в то время в 10-м классе, и было ему 17 лет. В первый же день работы мне поручили заняться стенной печатью. Мне посоветовали найти воспитанника Гаврилина, который как бы заведовал стенгазетой. Сначала я "вышла" на Витю Никитина по прозвищу Король, который был соседом Гаврилина по спальне. Говорю: "Вы не знаете, где Гаврилин?" — "А-а, Великий... Вам нужен Великий?" Я не сразу поняла, что это такое прозвище было у Гаврилина, и говорю: "Ну, не знаю — великий он или не великий, но он мне нужен". Тогда Витя-Король дал мне приметы, по которым я смогу найти Гаврилина: волосы черные вьющиеся, носит очки, шея в плечах. "Но вы его сейчас не найдете, — сказал Король, — он на этажах". "На этажах" — значит в одной из свободных, предназначенных для занятий комнатке на третьем или четвертом этаже. Я стала подниматься по лестнице, а навстречу мне спускается — я его сразу узнала по описанию — Гаврилин. "Вы Гаврилин?" — спрашиваю. "Ну я. А что?" — и смотрит так испуганно, глаза круглые-круглые. "Мне сказали, что вы занимаетесь стенгазетой". — "Не буду больше заниматься". Вот так состоялось наше знакомство. Потом, кстати, он участвовал в выпусках стенгазеты, причем с удовольствием.
— А вы сразу почувствовали флюиды?
— Какие флюиды! Ничего я не чувствовала! К тому времени я уже три года отработала в школе. Старшеклассники очень ко мне благоволили. Так что я привыкла.
— То есть это не была любовь с первого взгляда?
— Много лет спустя жена художника Юры Селиверстова — большого друга Валерия Александровича — рассказала мне, что Гаврилин как-то признался Юре: "Я в первую самую встречу — тогда, на лестнице — сказал себе: "Я па ней женюсь".
— А когда вы поняли, что перед вами гениально одаренный человек?
— Не сразу, конечно. А поженились мы через два с половиной года, 22 июня 1959 года. Прожили вместе почти сорок лет... С потерей Валерия Александровича я, наверное, никогда не смирюсь... Иногда мне кажется, что он наблюдает оттуда, с неба..."
Воспоминание — личное дело человека, спрашивать лишнее здесь не следует. Не хочет Наталья Евгеньевна их писать, значит, есть у нее причина/
Но я взял эпиграфом к этой главке несколько строк из А. К. Толстого не зря. Не ответив хотя бы на один из четырех вопросов, заданных в этой строфе Толстым, мы не поймем, какие чувства в Наталье Евгеньевне Штейнберг вызвал Валерий Александрович Гаврилин.
Сразу после женитьбы для Гаврилина приспела пора так называемого хождения в народ, иными словами, практика студента. Но к народу этот студент был уже приобщён... Целью такой практики было новое приобщение к народу, приобщение уже под пристальным глазом преподавателей. Быть может, такой контроль и пошёл на пользу Валере Гаврилину, в чём автор сомневается.
Гаврилин к тому времени был уже сформирован тяжкой предыдущей жизнью, материнской тюрьмой, двумя детдомами, великим обилием щкрабов (школьных работников).
Он уже писал музыку, делал в ту пору такие записи: "Чем проще, тем мудрее и тяжелее", или: "Говоря о дряни, делаешь её ещё гаже, о красоте — ещё краше". Об эстетике Л. Н. Толстого, например, у него целое исследование.
В этот период Гаврилин преодолевал влечение к литературе. Надо было остановиться только на музыке. К этому времени появилось в нём и некое ехидство, переходящее иногда в сатиру, проскальзывающую в его случайных коротких записях. Например, о своей "альма матер" он говорил так: "Если Ленинградская консерватория — овца в искусстве, то фортепианный факультет — её хвост, который всё время дрожит". А о квартете однокурсника Л. Балая сказано ещё резче, словно для тогдашнего журнала "Крокодил": "Хороший квартет, только не хватает к нему деревянной группы, медной группы и парочки кастаньет". Причём записал он эти слова без всяких кавычек, подчеркивающих сатирический той.
Но были в ту пору в гаврилинской голове и совсем иные, более серьёзные мысли: "Враки, всё враки это, что нет больше слов, что сказано всё о грядущем искусстве, что отзвучали все гармонии, что пресытившееся ухо человека равнодушно и бесстрастно пожирает чуда, самые немыслимые и капризные, какие только может создать фантазия злая и горячая, как огонь, сверкающая и быстрая, как молния, страшная и сильная, как атом".
Следующая фраза — чистая литература: "Холодным золотом глядится в моё окно утро. Облака, промёрзшие и скучные, понуро висят над домом, покачиваясь и шевеля усатыми боками. Им неуютно и... (неразборчиво. — В. Б.) в то же время. Беспокойные крики птиц вырываются из сада, и черно-золотой воздух полыхает, истомлённый последними объятиями с улетающей красотой осени. Летят, летят птицы. И я как птица. Чудным жаром охвачено моё сердце и кровь".
Отрывок явно указывает на литературные интересы Валерия Гаврилина. Эти способности реализованы не до конца, потому что писал он урывками, скорее всего, тайно от жены, и домашних, и друзей. Однако, дорогие читатели, каков гаврилинский стиль! Как точны его словесные образы, хотя бы этот "черно-золотой воздух"... И мы верим каждому слову, не потому верим, что покойный Гаврилин замечательный композитор, а потому что достоверна картина глубокой осени, неуютная утренняя обстановка дома (хотя чего бы, кажется, тужить?). Достоверен и дух мегаполиса с облаками и летящими птицами. Всему этому мы тоже верим...
Искренна до пронзительности такая запись: Ищи святее страну
другую,
а я в этой проживу. А какому жанру принадлежит эта оборванная запись? Судя по расположению строчек, предполагалось, видимо, стихотворение. Но к кому персонально было оно обращено — сие нам неизвестно... Так же неизвестно, чем и кем из сверстников вызвана и такая краткая реплика: "Я глупых шуток не люблю".
Дотошного музыкального исследователя заинтересуют краткие гаврилинские реплики о Глинке и Пушкине, о Даргомыжском, Верди и Монюшко.
Он быстро мужал и креп. Свою комсомольскую организацию он прозвал в ту пору "стадом баранов". Юным музыкантам не хотелось ехать в колхоз, а Валерий мысленно и в записках спорил с ними, приводил примеры комсомольских подвигов на целине. "Нам нечего зазнаваться, мы с нашими настроениями и высказываниями слишком рахитичны и трухлявы для того, чтобы зазнаваться, презирать простую кепку и широкие штаны", — искренне считал он.
В колхоз великовозрастных деток начальство не послало, а вот на практику, то есть в фольклорную экспедицию, отправило, и Гаврилин поехал на эту практику с видимым удовольствием.
У первой же речки он с наслаждением снял башмаки. Поставил на мостик дорожную торбу и достал спички, чтобы закурить, стоя босиком в чистой воде. Тогда он ещё покуривал, дома — на балконе, потому как родился уже сынок.
Ах, как счастлив он был при встрече с полевыми цветами, ромашками, к примеру. На них можно гадать, отрывая один за другим белоснежные лепесточки, как, бывало, в детстве гадали с сестрёнкой Галей. Как-то она живёт теперь?
Вспомнилась опять мать, и стало грустно. Он в Перхурьеве собирал и приносил ей вместе с Галей такие же пронзительно синие васильки, собранные во ржи. Незабудочки у лодейнопольской речки тоже.
Но особенно превосходна проточная речная вода. По вкусу она точь-в-точь такая же, как в Кубенском озере. Как хорошо! И зачем только люди живут в больших городах, дерутся, давятся в очередях и электричках, лысеют, худеют в борьбе за квартиры и деньги? (О лысеющих записал даже в записную книжечку, получилось как бы о себе, а не о ком-то другом. Но тогда шевелюра его ещё даже не седела...).
Пошли искать ночлег. В первом же здешнем доме Валерий поразился разнице между говором вологодским, перхурьевским и здешним. Ещё больше оказалась эта разница в плясках и пении, когда побывали на молодёжном гулянье. Вот тебе и всё одинаково!
Нет, русский народ достаточно многообразен, по крайней мере в музыке. Частушечный здешний ритм похож на перхурьевский, лишь гармошки поют менее звонко, но, быть может, он просто отвык? Нет, не отвык! Всё в здешних краях то же самое, как около Вологды. Даже сопровождение, даже так называемая "ротовая" имеется.
"Ротовая" — это когда нет ни гармошки, ни балалайки, ни даже гитары. Когда и играть некому на них. Вот тогда-то девчонки и начинают наяривать собственным ртом и петь и плясать под эту музыку...
В книге "О музыке и не только" мы читаем интересные записи Гаврилина той поры о русских частушках: "Покосные": 3-дольный размер — как бы подчеркивает ритм работы. Жала-жала. Частушка глиссандо. Срезала — наклонилась, еще срезала и положила. Тут небольшой довесочек, нарушающий размеренный ритм мелодии частушки. Частушка эта очень светлая. В ней много воздуха и чистого простора". А вот о фольклоре: "О текстах. Изобретательность в юморе, в темах и сюжетах для него — безграничная, прямо космическая. Если бы такие стихи писали поэты, то я бы сказал, что техника у него — на грани фантастики, рифмы — железобетонные: Эх, пой, пой-ка,
Распевай кой-как,
У меня койка,
Ночевал Колька". О Боже, как, оказывается, интересно всё это! Нет, не напрасно он родился в деревне. Да, сейчас можно сравнить музыку и слова, которые он слышал в Перхурьеве и в Кадникове. Сравнить с здешними. Увы, там вроде бы лучше было. Но, может, в детстве буквально всё было намного лучше?
...Валерий подбил однокашников на то, чтобы собрать букет полевых, диких, как они говорят, цветов. Собрали и преподнесли хозяйке, у которой спали. Она едва не разревелась от этой любезности. Только какие они дикие — полевые цветы? И звуки гармошек, и незамысловатые песенки отнюдь не дикие и не примитивные, это он докажет любому академику. Профессор Феодосии Антонович Рубцов понял бы его, Гаврилина, с полуслова. Как странно! Рубцов профессор. Поэт-земляк — тоже Рубцов. И у них не только фамилия общая, но и души родственные. Много на Руси таких совпадений! Впрочем, во всех странах, у всех народов есть нечто подобное. Но в России однофамильцев, наверное, больше.
Валерий привёз из этой поездки много стихов, а не только записанных мелодий, редких слов, записей собственных раздумий. Вспомнились ему многие эпизоды детства, многие впечатления.
Всё надо записать, особенно мелодии. Ведь предстоит публичный отчёт. Тянуло писать и свою музыку, тянуло неудержимо... Здесь же, на "практике", Гаврилин многое осмыслил в своей и материнской судьбе, думал, что ждёт в ближайшем будущем его семейство, что будет с Россией и с родным русским искусством. Записывал он и бытовые сюжеты, и шуточные, неожиданно пришедшие в голову стишки. Иногда они были совсем шуточные, иногда серьёзные.
Под конец поездки совсем заела его тоска по недавно родившемуся ребёнку, по своему сынку, которого назвали Андреем. На сколько он подрос за эти недели? Здоров ли?
Валерий пробует свои силы, пытается самовыразиться разными способами — то с помощью статьи, то едва ли не .с помощью описания фантастических снов. Вот начало большой статьи. Гаврилин хотел перефразировать в этом начале А. С. Пушкина, но рифма не подвернулась, строчка осталась незаконченной: "Ему больно, нам смешно, мы грозим ему..." Давайте подставим за него слово, хотя бы какое-нибудь "роно", или, например, "в кино", или "давно" и т. д. Далее он пишет:
"Каждый молодой композитор переживает мучительный период в творчестве. Период этот проходит долго и нудно. Он изматывает воображение, вызывает глубокую тоску, разочарование, и молодой композитор, в голове которого роятся сражающиеся мысли (выделено мною. — В. Б.), днём и ночью тянущие и царапающие его душу, наконец с горечью замечает, что он, кажется, зарапортовывается и начинает тихо-тихо садиться в галошу.
Период этот наступает тогда, когда пройдена и освоена практически техническая школа сочинения, когда умение стало необходимой и непреходящей частью работы над сочинением музыки, когда оно вошло в кровь и когда композитор может на этом вот фундаменте крепко начать строить себя.
В это время молодой композитор уже может слегка профпижонить — слиговывать целую ноту с восьмушкой, превращать квадрат в параллелепипед и трапецию, вдруг что-то тонко упростить или топко утолстить и т. д.
И тогда наступает исторический период. Высоко взметывается знамя поисков, на котором начертаны два слова — "как писать?".
Ни в какие времена и эпохи искусство не шло по столь бесчисленным путям-дорогам, как в наше время и в нашу эпоху. Никогда борьба не была столь жестокой, как сейчас, никогда враги в искусстве не были столь непримиримы, как сейчас. Ни у одного композитора не хватит фантазии, чтобы показать малую толику направлений в мировом искусстве.
И представьте себе молодого композитора, попавшего в этот лес и заблудившегося в музыке. Он не теряет надежды выбраться на свет Божий и отыскивает дорогу по звёздам. Он устремляет свой взор к усеянному облаками небу современного искусства, сплошь утыканному светилами всех мастей. В его глазах рябит. Тут вышедшая из облаков звезда привлекает его внимание, и ему кажется, что она горит ярче других. Это — лаконизм. Композитор проникается к нему симпатией, он пытается встать с ним па дружескую ногу, забраться к нему в душу, раскусить, познать, почувствовать и т. д. У молодого творца от чрезмерных усилий мутится голова, и, глядя на звезду, он начинает слегка поташнивать отражённым светом".
Здесь мы прервём большую выписку из статьи Гаврилина, озаглавленной "Как писать?" Тот, кому очень хочется знать её продолжение, берите книгу и читайте тридцать шестую страницу со второго абзаца. Статья заканчивается на странице тридцать седьмой непонятной фразой, а сама страница завершена таким предложением: "Стрижи брили воздух. Мне было больно. Я чувствовал себя лысым".
После этого в книге "О музыке и не только" есть потрясающий любовный диалог, который завершён четырьмя строками. Вот эти строчки: "Катька' женилась. Вышла замуж. За меня. Она моя жена. Муж моей жены — это я. Мне приснилось — в ковше сидит медведица. Все говорили: "Это Большая Медведица, потому что она сидит в ковше".
...Мне кажется, Наталья Евгеньевна Гаврилина сделала ошибку. Фраза о стригущих воздух стрижах должна стоять после сна о Большой Медведице.
Вообще, упомянутую книгу (имею в виду "О музыке и не только") следовало бы переиздать, в ней столько не бытового, чисто музыкального, искусствоведческого богатства!
Отчёт Валерия Гаврилина по итогам лодейнопольской экспедиции студентов 1962 года был довольно обширным, он заканчивался обзором песенного народного творчества и таким признанием:
"Для многих из нас знакомство с этими песнями явилось весьма полезным душем. В наше время, когда профискусство так засижено всевозможным количеством точек зрения и испещрено всевозможными течениями во всевозможных направлениях — это вещь незаменимая. В ней, видите ли, очень много витаминов".
"Да, чуть не забыл, — добавляет он, — всё показанное умещается в обыкновенную октаву". ГЛАВА СЕДЬМАЯ "Русский Шуман"
Миг выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит с тех пор меня.
Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг. Николай Клюев
Говоря о композиторе Гаврилине, мы, к сожалению, не можем утверждать, что он стал классиком еще при жизни, как это произошло со Свиридовым.
Сравнивать двух композиторов, причём знавших друг друга при жизни, мы имеем право. Корректно ли сравнивать их по таланту? (Опять корреляция, как теперь выражаются.) Да, по нашим понятиям, сравнивать можно. Хотя бы: кто из них работал больше и плодотворней? Ведь буквально всё в мире взаимосвязано: и виды искусств коррелятивиы, и всё друг на друга влияет — или подсобляет друг дружке, или вредит. Прошлое и будущее, религиозное и безбожное, любовь и ненависть, война и мир. Всё неразрывно.
И только Бог соединяет воедино всё и вся. Вера же даёт человеку свободу и способность распутывать сложнейшие клубки противоречивых понятий. Я познал это на себе, хотя и с ужасным опозданием. Вся моя семидесятилетняя жизнь, все мои ошибки и счастливые события подтверждают справедливость мысли о вере. Провидение допустило меня к знакомству и даже к дружбе с такими людьми, которые остались для меня живыми, будучи и покойниками. Яшин, Фёдор Абрамов, Владимир Солоухин, Евгений Носов, Николай Рубцов, Василий Шукшин, Анатолий Передреев. Из музыкантов называю Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина, из среды художников — Николая Третьякова. Эти люди были моими друзьями.
Судьба подарила радость и счастье общаться с ними, встречаться, иногда и бражничать. Не может быть, чтобы это было напрасно, без вмешательства высших небесных сил. Вот почему говорю в этой главке про знакомство с Георгием Васильевичем Свиридовым — гениальным композитором. Божественные звуки свиридовских произведений ассоциируются для меня с русскими народными песнями, слышанными в раннем детстве. Более того, моя личная судьба связана с песней "Услышь меня, хорошая" из свиридовского так называемого "слободского цикла". То есть Свиридов проникал в мою душу задолго и до Гаврилина, задолго до личного знакомства с Георгием Васильевичем.
Помнится, слушал свиридовскую музыку на слова моего земляка Сергея Орлова. Пелось широко и проникновенно про двух танкистов-однополчан, как они запели при встрече в Кич-Городке, в сельской чайной... Песня эта, свиридовская, и сейчас звучит в моём сердце, хотя было это очень давно. Затем услышал я потрясшую меня свиридовскую музыку к кинофильму по пушкинской повести "Метель".
Конечно, после знакомства с вологжанином Гаврилииым интерес к Свиридову удвоился, появился у меня и телефон, и адрес Георгия Васильевича, но я стеснялся звонить ему, приезжая в столицу. Только после того, как в зале Московской консерватории сам пожал его сухую жилистую руку, осмелился звонить. И только после того, как работник издательства ' Молодая гвардия" Юрий Селезнёв свозил меня однажды на дачу к Свиридову, я совсем осмелел и даже написал композитору письмо. * * * Известность пришла к Гаврилииу в 1967 г. после исполнения его вокально-симфонической оратории "Скоморохи". Вот как рассказывала об этом в уже упомянутом интервью "Вологодским новостям" (18—24.2.2004) Н. Е. Гаврилина:
"— Началось все с театра. В 1967 году Гаврилин получил предложение от Игоря Петровича Владимирова, который тогда возглавлял театр им. Ленсовета, написать музыку к спектаклю "Через сто лет в березовой роще" по пьесе драматурга Вадима Коростылева. Пьеса была посвящена декабристам. А введение в спектакль скоморохов было удачным ходом и логически оправданно. Так вот, Гаврилин написал к этому спектаклю 4 скоморошьи песни и еще несколько музыкальных номеров. Кстати, одним из них был "Марш", который девочки сегодня в музее играли в четыре руки. Только первоначально он назывался "Николаевский марш". Также для спектакля был написан "Императорский вальс". Спектакль прошел всего несколько раз, и его запретили. Цензуре показались слишком откровенными высказывания против власти. Таких мест в спектакле было много.
Тогда Гаврилин добавил несколько оркестровых номеров, и сочинение стало ораторией. Всего существует три редакции этого произведения. Последняя была сделана в 1986 году. В ней партия солиста частично передана хору. Впервые в этой последней, третьей, редакции "Скоморохи" исполнены Большим симфоническим оркестром под управлением Федосеева в 86-м году. Солистом был Ведерников.
А в первой редакции "Скоморохов" пел Эдуард Хиль. Здорово он это делал! Валере очень нравилось. И вот однажды их — Гаврилина и Хиля — вызывают в обком комсомола с тем, чтобы они исполнили "Скоморохов". Они с радостью пошли, в полной уверенности, что получат одобрение. Не вдаваясь в подробности, скажу, что после этого прослушивания, на котором присутствовали и люди из обкома партии, "Скоморохи" перестали существовать на сцене. Они были запрещены. Об издании оратории не могло быть и речи.
— Из-за текста?
— Конечно. Текст пугал литературных цензоров. Что же касается публичных исполнений, то они были, но редко, и носили не официальный, а подпольный характер. После "перестройки" картина, конечно, изменилась, ораторию стали исполнять. Тем не менее печатное издание "Скоморохов" увидело свет лишь в 2003 году. Вот такая судьба". * * * Здесь я снова, предоставляю слово своему другу Антону Олеговичу Вискову: "Спасибо Вам за Ваше письмо: оно побудило меня ещё раз внимательно рассмотреть некоторые обстоятельства, связанные с творчеством Валерия Александровича, и вот некоторые мысли, которыми мне хотелось бы с Вами поделиться. Мне представляется чрезвычайно важным проследить эволюцию стиля композитора с точки зрения его обращения к различным пластам музыкального фольклора. "Русская тетрадь", написанная композитором после фольклорной экспедиции (это можно проверить по хронографу его жизни)*
(* В творческом "хронографе", составленном самим В. Гаврилиным (см. главу 4-ю), вокальный цикл в 2-х частях "Русская тетрадь" датирован 1973—1975 гг. (Прим, редакции]), вобрала в себя много разновременных пластов народной музыкальной культуры, среди которых древние слои, связанные со старинными обрядами, занимают очень большое место, что, несомненно, отложило яркий отпечаток на общий художественный строй и вообще целостный уровень произведения, благодаря чему оно заняло безусловно уникальное место в истории не только русской, но и вообще мировой музыки (подобного камерного вокального цикла доселе просто не существовало). Старинные пласты народной культуры потому имеют большую ценность, что создавались и кристаллизовались на протяжении многих веков стабильного существования гармоничной, высоко духовной крестьянской цивилизации до её разложения и постепенной замены цивилизацией индустриальной, в которой "массовая" культура целиком вытеснила фольклор. "Переходный период" характеризуется появлением так называемой "фабричной" культуры, где большое количество ходульных штампов, "чувственность" духовного настроя, банализация интонационно-гармонического ряда, отразили ощущения тоски и безысходности, являясь художественным осмыслением гибели гармонии крестьянского "лада". И если в историческом контексте этот период занимает более чем полтора века, то Гаврилин после "Русской тетради" довольно быстро, так сказать, "смодулировал", почти совсем отказавшись от драгоценного крестьянского фольклорного наследия и целиком опершись на музыку "фабричных окраин". Несомненно, этот пласт поднят композитором на недосягаемую художественную высоту, как мог сделать только гениальный русский художник, однако объективно присущая этой музыке художественная ограниченность и "упадочность" эмоционального настроя (чего никогда не встретишь в старинной крестьянской культуре) не могла не сказаться на собственном музыкальном языке композитора, творчество, да и сама жизнь которого представляется мне потрясающими символами трагической судьбы и русского фольклора, и всей крестьянской цивилизации, и русского парода в целом. В то время, как национальные композиторские школы всячески поддерживались, благодаря чему там появились замечательные художественные произведения (у О. Тактакишвили в Грузии, В. Тормиса в Эстонии, ТУТ. Чапаева в Дагестане — все выдающиеся и чрезвычайно любимые мною композиторы, — да и многие другие), русская школа угасала, подвергаемая медленной мучительной казни, как угасал и её последний представитель — Валерий Гаврилин, непроизвольно запечатлевая свою гибель на страницах собственных произведений. Вот почему во многих местах "Перезвонов" мы слышим словно вой могучего, но уже смертельно раненного, обложенного со всех сторон флажками, обречённого зверя, вот почему с таким наслаждением идут в концертные залы слушать эту музыку сами "охотники", наслаждающиеся своей победой, фарисейски восхищаясь, -но на деле глубоко презирая и ненавидя это искусство. Что ж, веселитесь, смотрите, как бьётся в агонии русский мужик, какая это небывалая, угарная пляска обречённых! Отчаяние, потеря веры, надлом духовного стержня — судьба композитора, захваченного в тиски враждебного окружения, является зеркалом судьбы его народа. Гаврилин — подлинно народный композитор. И если Свиридову было суждено запечатлеть "Русский Апокалипсис" в грандиозных эпических или даже космических масштабах, то Гаврилин вскрыл само нутро погибающей страны. Мне представляется, что именно во всём этом лежит ключ к разгадке творчества и жизни последнего русского композитора.
Надеюсь, мои мысли могут оказаться Вам полезными. Дай Бог скорейшего окончания книги".
Переписка с композитором Антоном Висковым оказалась большой для меня поддержкой в создании книги о Валерии Гаврилине. Появился серьёзный, ответственный помощник. Я с нетерпением ждал от него новых писем. Вот одно из них:
"Недавно мне еще раз посчастливилось окунуться в стихию этой удивительной музыки. Также и его записные книжки, говорят, переизданные ещё раз в Питере*
(* Это переиздание мне неизвестно. — В. Б.) ("О музыке и не только", издательство СП), производят незабываемое впечатление.
Всё его творчество с художественной точки зрения представляет собой уникальный (действительно, почти единственный) образец подлинно народного музыкального искусства в профессиональной академической сфере. Я имею в виду народность не столько как идейную категорию, сколько качественное определение, сорт, разряд его произведений. Поясню. Сравнивая, к примеру, полотна Врубеля, исполненные фантастической техники, и картины безвестного крестьянского художника, мы придём к выводу, что объединяет их подлинность, исконность, природная художественная правда, присутствие в них наития Святого Духа. В творчестве Гаврилина носителем этой духовной правды является интонация, индивидуальный музыкальный язык композитора, глубоко уходящий корнями в русское народное творчество. Во всех его сочинениях мы слышим голос русской послевоенной деревни. И это единственный в мировой музыкальной культуре пример столь высокого уровня художественного обобщения той исторической среды, поразительный памятник эпохи. Его интонация прочно вросла в родную почву, при этом сохраняя яркое индивидуальное своеобразие. Она драгоценна, поскольку нет у нас больше с тех пор столь "почвенных" композиторов: одни так и не добрались до профессионального Олимпа, рассредоточась в сфере музыкальной ропетовщины**
(**Ропетовщина — здесь — декоративность, псевдорусский стиль. Термин относится к архитектуре И. П. Ропета (Ивана Николаевича Петрова, 1845—1908), В. А. Гартмана и других. (Прим. ред.)), другие (таких большинство) вообще оторвались от русских корней. Однако с точки зрения технологии его произведения не подымаются (за редким исключением) над уровнем гениального мастера-самоучки, пребывая в одном ряду таких явлений, как, например, народная живопись, народная архитектура (с её общемировыми шедеврами). В большой степени произведения Гаврилина — это картины кузнеца Вакулы. И в этом — их особая оригинальность. Однако, если мы сопоставим их с произведениями, например, немецких романтиков (столь любимых В. А.) или того же Свиридова, то не сможем не заметить нарочитого опрощения, может быть, даже тяготения к определённому приземлению градуса художественного воплощения (что всегда ставят в вину композитору его недоброжелатели). И если знаменитая "Русская тетрадь" — гениальное, уникальное по новизне, уровню исполнения, оригинальности и самобытности произведение — но праву могла бы закрепить за её создателем звание "русского Шумана", то все последующие сочинения (по крайней мере, те, которые я знаю) уже замутнены приникновением в них течений из более низких жанровых горизонтов и поэтому явно проигрывают, находясь в области классической академической музыки. Почему это произошло? Всегда, когда я об этом думаю, меня охватывает чувство досады. Ведь если бы Гаврилии удержал планку "Русской тетради", то у нас действительно был бы русский Шуман, и наша музыка в очередной раз открыла бы миру новые художественные горизонты. А сейчас, сколько бы ценители и поклонники русского искусства ни пытались превознести Гаврилина на уровень классической русской музыки, у их противников всегда найдётся большое количество аргументов (увы, объективных) в обратном. Что же случилось с талантом композитора? На мой взгляд, виной всему стала та социальная и культурная среда большого города, куда попал молодой Гаврилин и которая была столь непохожа и чужда всему, к чему он привык.
Натура впечатлительная и ранимая, он сразу оказался под напором различных личных "влияний". Конечно, трудно в то время было им не поддаться, но вместе с ними в сочинения Гаврилина навсегда вошли чужеродные интонации, заметно опошляющие чистоту гаврилинской речи. (От них в свое время страдал и Свиридов, своей могучей натурой долго преодолевавший это давление.) Конечно, чрезвычайно пагубную роль сыграла в жизни композиторе интенсивная работа в области прикладной, в частности, театральной музыки, со своими не всегда музыкальными требованиями, пившая его творческие силы, но от которой
он не мог отказаться (надо было, как говорится, кормить семью). Материал из спектаклей, порой сомнительного качества, перекочёвывал в концертные сочинения, перенося туда налёт то театральщины, то обыкновенной "попсы". Вот откуда у автора гениальной "Русской тетради" появляется "пионерская кантата" "Земля", пошловатые эстрадные песенки; вот почему многие из его сочинений "сшиты" из отдельных кусочков, где ослепительные жемчужины ранних, видимо, ещё консерваторских работ перемежаются неуклюжими заплатами поздних творений. Общая недоработка также присуща многим его произведениям, где, после открытия оригинальнейшего, драгоценнейшего материала, композитору не хватает чисто ремесленного мастерства, чтобы отделать детали, "дотянуть" произведение до классической планки (как, например, в "Скоморохах"). (Я не знаю, может быть, учили его не слишком качественно, а может, он сам растерял все по дороге.) Кстати, Ф. Абрамов говорил, что многим рассказам Шукшина не хватает этой самой отделанности, что, впрочем, не мешает им быть популярными, и яркими, и горячо любимыми у читателей.
Удивляет и то, что композитор крайне редко обращается в своём творчестве к русской классической поэзии, да и к подлинно фольклорной тоже (кроме опять-таки "Русской тетради" и "Времён года"), отдавая предпочтение либо весьма посредственным виршам, либо обыкновенной тарабарской бессмыслице, попахивающей какой-то идиотичностыо (чего стоит, например, рифма "лодка — селедка" в любовном романтическом контексте).
Видимо, по тем же причинам происходит и то упадническое, унылое, безысходное настроение, которое пронизывает многие, особенно поздние его работы и которое явно противоречит мировоззренческим основам, душевному складу русской музыки, где трагедия никогда не превращается в уныние и отчаяние, а реализм не переступает границы натурализма.
В телевизионном фильме о композиторе один его односельчанин с горечью сказал: "Хорошую музыку он пишет, но если бы жил здесь, с нами, то писал бы ещё лучше". Этот мужик верно понял трагедию одинокого художника, брошенного в горнило враждебного окружения, вырванного из родной среды, рано сломленного, но до конца боровшегося за своё творческое существование...
Висков Антон Олегович".
Честно скажу, что некоторые письма Вискова кидали меня то в жар, то в холод. Музыкальные секреты, профессиональные тайны открывались не сразу. Вот ещё одно его письмо:
"Когда начинаешь задумываться о творчестве Валерия Гаврилина, неминуемо наталкиваешься на особо болезненные точки в развитии нашего музыкального искусства. Вот, скажем, явление так называемой "массовой" песни. Понятно, что эта отвратительная вещь насаждалась в качестве суррогата подлинно народному песнетворчеству. В стилистическом отношении оно представляет собой мешанину опошленного и предельно опрощённого, "банализированиого" западного романтизма XIX столетия и эстрадной субкультуры. На долгие годы оно стало официозным стилем государственной музыкальной пропаганды. Немногим композиторам удалось избежать его растлевающего влияния (например, Соловьеву-Седому или Новикову). Появилось уродливое псевдорусское ответвление этого направления (процветающее и сейчас), когда эстрадные песенки стали играть под гармошку и балалайку "а ля рюс", и многие русские композиторы народнического направления насобачились писать именно в нем. Русским духом здесь, конечно, и не пахло. От Гаврилина, писавшего для театра, естественно, требовали создания "демократичной" музыки, под которой, собственно, и подразумевали советскую массовую песню (суровый стиль "Русской тетради", понятно, здесь мало подходил). С другой стороны, композитор всегда очень сильно зависит от вкусов публики, которые к тому времени были уже основательно подпорчены. В общем, справа — требования редакторов, консультантов, режиссеров, слева — желание быть услышанным капризной, избалованной петербургской публикой. Я подозреваю, что свои эстрадные песни Гаврилин писал либо для театра, либо переделывал театральную музыку по спецзаказу с помощью литературных помощников.
Лучшее, что создал в этом жанре Гаврилин, безусловно, несоизмеримо превосходит по оригинальности, непосредственности чувств, искренности все написанные в то время музыкальные песни-поделки (включая действительно тонкие, талантливые стилизации под старинный русский романс Исаака Шварца). Например, песня "Мама" из кантаты "Земля", уникальная по своей тематике, хотя и несет на себе довольно ощутимый налет слезливой сентиментальности, тем не менее не имела себе равных на советской эстраде и, пожалуй, до сих пор способна довести до слез женскую часть слушателей аудитории. То же можно сказать и о песне "Два брата", в свое время бывшей очень популярной, но сейчас уже, к сожалению, почти забытой, хотя и прозвучавшей бы весьма актуально. До подлинных народных песен авторского происхождения (Соловьева-Седова, Новикова, Листова) этим сочинениям недостает, на мой взгляд, во-первых, мужественной целомудренности (Рубцов), неотъемлемого качества истинного произведения искусства, особенно русского происхождения (некий синдром "бабской ноющей истеричности", что, видимо, было в какой-то степени и в натуре самого композитора, о чем свидетельствуют некоторые жизненные эпизоды: любил "поплакаться в жилетку" Свиридову о своей разнесчастной доле, а у кого из русских она когда была счастливой?), во-вторых, отсутствие ярко выраженного национального мелодического тематизма, интонационная электика (начало песни "Мама" — "интернациональная" попевка из американского мюзикла "Камелот", продолжение — из романса А. Дворжака (соцромантизм), припев — из "Мелодии" Бабаджаняна, — все ходульные интонации). Тем не менее на общем фоне песня все же выделяется. В ней слышна искренняя тоска композитора о своей потерянной матери, горечь сиротства, одинокость его надорванной души, словно отражение надорванности души народа. И, уж конечно, предельной по степени выражения, почти натуралистической была песня "Простите меня", в общем-то и не песня вовсе, а скорее предсмертный крик, не музыкальная вещь, а записанная нотами интонация вопля, причитания, в поражающей банальностью и пошлостью обработке, жуткий звуковой документ расставания человека с миром, притом, как часто водится у Гаврилина (особенно в конце пути, в "Перезвонах"), все это пропущено сквозь пьяную слезу. Те, кто видели композитора на последнем авторском концерте в зале Капеллы в Питере во время исполнения этого шедевра, сразу могли бы понять, почему многие считают его символом конца, распада и разложения русской культуры. У замечательного русского музыковеда Евгения Михайловича Левашова кто-то из студентов писал работу на тему "Образ пьянства и пьяниц в русской музыке". Не знаю, затрагивалось ли там творчество Гаврилина, но мне кажется, что очень многое в его сочинениях становится понятным именно тогда, когда к ним подходишь с позиции пьяного человека. Мрачные подпрыгивания желающего согреться с похмелья мужичка — "Весело на душе" (кто из нас сам хоть раз не вписался бы в этот образ?). Но у Гаврилина — масштаб! У него похмелье по всей Руси, безысходное пьянство от безысходности жизни. И он хорошо знал, о чем писал, и как художник, и как человек испытал все это. Пьянство, разбой, бредовые видения, детство, мать, колыбельные, молитва — такова гаврилинская Русь, изображенная в "Перезвонах". Никто такой подноготной, как он, еще не выворачивал (ни Мусоргский, ни Свиридов).
Теперь о "Скоморохах". Давняя музыкальная традиция изображения шутов (...).
На мой взгляд, здесь была выбрана неправильная концепция всей его вещи. Он подбирал музыку из разных других сочинений (как часто у него бывало), нанизывая на явно "диссидентскую" (чуждую русскому духу) идею о том, что музыканты на Руси во все времена были скоморохами, с фигой в кармане, стояли в оппозиции к властям, за что и страдали (уж лучше бы на эту тему писал какой-нибудь Окуджава). Должен был получиться некий сатирикон на царизм, на русскую жизнь и т. д. Но русский дух композитора воспротивился воплотить эту явно чуждую ему идею. Отсюда и происходит и эклектичность, и недоделанность — чего стоят, например, бесконечные скандированные речевки вместо музыкально интонированного выразительного
речитатива, мастером которого, безусловно, был композитор (слушай "Русскую тетрадь") при наличии замечательного, необыкновенного по силе и выразительности материала. Эх, можно только предполагать, как при грамотной редакции и инструментовке можно было бы использовать этот потрясающий материал. А так вышло "ни в городе Богдан, ни в селе Селиван"! Потом — тексты, тексты! Ведь он прекрасно знал народную поэзию, высокую, духовную, чистую. Зачем ему нужно было опускаться до всяких поделок стихоплётства? Или ему уже предоставляли готовый сценарий? (...)
Далее о вокальном цикле "Вечерок". В Москве существовала, да и сейчас существует группа композиторов, работа которых была тесно связана с театральной и киномузыкой. Они образовали так называемое "третье направление", то есть уже не эстрадники, но ещё и не академисты. Идеи были будто бы благие: уйти от эстрадной пошлости и от цехового консерватизма одновременно и придти к демократичной, но глубокой музыке. В итоге получилось: от эстрадности ушли, но и до классики не дотянули. В Питере таких композиторов тоже много: Петров, Баневич, Колкер, Шварц. Часто на эту сомнительную тропу приходилось соскальзывать и Гаврилину. Правда, и здесь, даже при понижении сортности, он оставался Гаврилиным, с самобытной, ни с кем не спутываемой интонацией. (...)
Гаврилин пролагал пути русской музыкальной правды. Другое дело, он не всегда сам смог по ним пойти, но сейчас важно, пойдут ли по путям этим другие русские композиторы, да и остались ли вообще таковые?"
Мне кажется, в этих острых суждениях Вискова о Гаврилине много справедливого. ГЛАВА ВОСЬМАЯ Ближний круг и дальний круг
Как музыке себя извлечь
Из пустоты, безмолвья, камня,
Чтоб звуки превратились в речь,
Калёную в огне исканья?
Как нам озвучить этот мир... Сергей Хомутов
(Из книги "Огонь, несущий свет".)
Моя первая встреча с музыкой Гаврилина произошла во вторник (даже день недели помню!) 26 декабря 1978 года в Большом концертном зале "Октябрьский" в Ленинграде.
Надо сказать, эта встреча меня несколько разочаровала. Летом 1977 года я послал Валерию какую-то свою книгу и вскоре получил от него такое письмо:
"г. Опочка, 15 июля 1977 г. Дорогой Василий Иванович!
Большущее-пребольшущее спасибо за книгу. Я весь разволнован и полон всяческих восторгов — прочёл два раза кряду. Как замечательно, что есть такое чудо, как Вы. Жизнь начинает нравиться, всё ясным кажется и самому работать и стараться хочется.
Любящий Вас В. Гаврилин".
Надо ли описывать мои чувства, когда я, будучи в Питере, позвонил, а жена сказала, что он болен и трубку взять не может. Что ж, не может, значит, не может... И в тот же день поспешил я на гаврилинский концерт в Октябрьском зале.
Я со вниманием слушал весь концерт, во время перерыва пробовал его встретить, пусть бы где-нибудь на лестнице. Но всё было напрасно... Хотелось поговорить хоть минутку-две, поддержать его в чём-то, о чём-то спросить. Но, увы! Он появился на секунду, раскланялся перед публикой и исчез. В суматохе и давке я не посмел к нему прорываться, может, и в самом деле болен? Когда концерт завершился, то он начал быстро уходить от всех поздравлений. Словно стыдился своего концерта... Он быстро покинул зал, прошёл длинным коридором. Я не стал его догонять, хоть и очень хотелось.
Сейчас, вспоминая всё это, я думаю: "А что бы я ему сказал, ведь концерт-то мне не очень понравился, лишь некоторые вещи запали в душу?"
"Северный родник" — значилось на входном билете. В программе первого концертного отделения: "Скоморохи", представления и песенки из старой русской жизни. Стихи В. Коростылёва".
Сделаем небольшую паузу и подумаем: почему В. Коростылёв? Кто такой этот Коростылёв? И почему музыка написана на такие бездарные стихи? Почему, например, этот Коростылёв паскудит царицу, погубленную вместе с царем Николаем и последним наследником престола Алексеем? Непонятно и странно...
Впрочем, понятно: среди литераторов обеих столиц господствовала тогда в России эстетика еврейских дам, они соревновались в юморе, когда говорили о свойствах русской души и традиционных славянских обычаях, об испытаниях, выпавших на долю русского народа. Господин В. Коростылёв и отражал подобную эстетику в беспомощных виршах.
Эдуард Хиль был тогда уже народным артистом, Валерий Гаврилин лауреатом Госпремии, — разве не понимали они, что поют? Родиик-то был действительно северный, да сильно мутный, благодаря хилям с рейтманами. И я, грешным делом, думаю, не Наталье ли Евгеньевне Гаврилин обязан этим окружением? Не исключено, что на Валерия влияли в выборе исполнителей сразу жена, теща и ее мать, которую он называл "пратёщей". Если так, то ему, конечно, "было не до своих пристрастий".
Не ахти какие поэтические достоинства обнаружила и поэтесса Альбина Шульгина, но эту, говорят, он отстоял в спорах с женой и двумя старухами.
...В 1960 году у Гаврилиных родился сын Андрей. Необходимо знать Валерия Александровича, чтобы понять его тогдашнюю душевную радость. Ему надо было сделать всё, чтобы были деньги. После рождения сына он сильно "напрягся". С 1959-го по 1983 г. он трудился не покладая рук, сочинил музыку к тридцати восьми спектаклям, в том числе к спектаклю "После казни прошу..." для Ленинградского ТЮЗа (режиссёр Б. Корогодский), "С любимыми не расставайтесь" для Театра им. Ленинского комсомола (режиссёр Г. Опорков), "Три мешка сорной пшеницы" для БДТ (режиссер Г. Товстоногов), "Степан Разин" для Московского театра им. Вахтангова (для М. Ульянова), "Живи и помни" для МДТ (режиссёр Л. Додин) и др.
Кроме того, с 1959-го по 1983 г. создано более полусотни песен и романсов, таких, как "Любовь останется", "Скачу!1 кони", "Мама", "Шутка" па стихи Альбины Шульгиной, "Черёмуха" на стихи Ольги Фокиной, "Два брата" на стихи В. Максимова, "Простите меня" на стихи А. Володина.
В 1964 году Валерий наконец закончил консерваторию. Закончил сразу по двум специальностям: композиция и музыковедение. И тут же поступил в аспирантуру по композиции.
А сколько он сочинил пьес для фортепиано, в две и четыре руки! Десятки! Казалось бы, подобное творческое напряжение давало известный заряд оптимизма и уверенности в себе. Но в ту же пору он записывает такие слова:
"Мне так нехорошо, так плохо в последнее время. Люди, которые кажутся мне симпатичными и близкими — по своему духу, таланту, наконец, по внешнему виду, по манере поведения — не замечают меня, вовсе. Они увлечены другими, с другими дружат, предпочитают их общество моему. Меня это ранит необычайно. За всю мою предыдущую жизнь не было случая, чтобы человек, к которому я тянулся, не тянулся бы ко мне. Самое-самое близкое, тесное, в доску своё товарищество необходимо мне всегда, каждую минуту. Мне всегда нужна атмосфера из обоюдной влюблённости. Вне её я не вижу ни смысла своей работы, ни цели моей жизни — рассказывать в музыке о самых нежных человеческих чувствах. Какая нелепость — писать о прекрасном, чистом, дорогом, необходимом и быть лишённым всего этого
"* (* Подчёркнуто автором, чтобы обратить внимание па тогдашнее состояние Валерия Гаврилина, возможно, и приведшее его к попытке самоубийства).
Известный кинооператор, соратник В. М. Шукшина, Анатолий Дмитриевич Заболоцкий вспоминает:
"В конце 80-х годов двадцатого века я передал Валерию Гаврилину через руки Толи Пантелеева публикацию о Шукшине в журнале "Москва", в котором только что стал главредом Леонид Бородин. А вскоре мы с Толей уже пили чай в квартире Гаврилина.
Гаврилин много двигался и "въедался". Всё расспрашивал меня о подробностях бытия Василия Макаровича. Удивляла его памятливость многих речений Макарыча. И как же он чутко комментировал текст пьесы "Ванька, смотри!", в печати названной "До третьих петухов". Или вдруг проговорит диалоги из рассказов, единожды опубликованных...
Мне встреча полюбилась и запомнилась. А вскоре судьба уготовила больше года жить в Ленинграде. Я снимал фильм "Обрыв", две серии, по текстам несравненного словесника И. А. Гончарова, писавшего роман полвека...
Во время долгого пребывания в Ленинграде было несколько встреч с Гаврилиным, в одну из них Анатолий Пантелеев снял нас на фотографию. Я чувствовал дружелюбие Гаврилина, однако всякий раз, когда звонил к нему домой без посредничества Пантелеева, слышал встревоженный, недовольный голос жены: 'Нет дома", и после, всякий раз, вспоминая предыдущий мой звонок, страшился звонить и откладывал. На потом...
Когда Валерий приезжал в Москву, он останавливался у художника Юры Селиверстова в мастерской на улице Герцена, звонил мне, и я тут же бежал в эту мастерскую, благо, до неё расстояние от моего переулка километра полтора.
Два его приезда врезались в память. О них — подробнее. Оба они были зимой. Случилась какая-то конференция, и в программе ее было первое исполнение Е. Ф. Светлановым симфонической поэмы Е. Ф. Светланова о Шукшине в Большом зале консерватории.
В перерыве за сценой Лида Федосеева со слезами принимала приветствия. Валерий Гаврилин взял меня за руку и представил Георгию Васильевичу Свиридову. Туг же Валеру утянули высокие люди, он мен? ними выглядел дитём... Я растерянно стою, Георгий Васильевич отводит меня в пустой угол и пишет телефон, сопровождая написание: "Если Эльза Густавовна не позовет меня к телефону, пряча меня от звонков, наберите другой номер, ко мне в кабинет". — "Да зачем мне ваше время красть? — говорю. — Одного телефона хватит". Георгий Васильевич вспыльчиво: "Если вас мне представил Гаврилин... Вы желанный гость в любое время... А еще о Шукшине... Эх, какую канитель ему устроили с Ленинской премией!.."
Отдав мне листок с номерами телефонов, он хлестко обсказал, какая шла игра вокруг премии. Когда Свиридова уводили, он сказал: "Звоните, поговорить-то есть о чём..."
Вторая встреча с Гаврилиным была во время исполнения в Большом зале консерватории симфонии-действа "Перезвоны", дирижировал Владимир Минин.
Был февраль, первая декада 1984 года. Исполнение зал принимал овациями во всякую случившуюся паузу. Гаврилин внутренне ликовал, внешне был неподвижен. Не помню, была ли на его шее бабочка, но он был в черном.
А другой день в мастерской Селиверстова было много людей. Валерий предложил мне прогуляться. В Москве далеко за минус двадцать. Снег под ногами скрипел громче наших голосов. Прошли через Александровский сад, миновали могилу Неизвестного солдата и вышли на Красную площадь. На часах было 22 часа 25 минут (цифра врубилась мне в память). По всей длине Кремлёвской стены, на брусчатке, спиной к ГУМу, стояли десятитонные МАЗы, загруженные венками до самого верху. И все машины работали на холостом ходу, испуская смрад сгоревшей солярки. А поскольку было холодно, от выхлопных труб каждой машины поднимался пар. На площади пахло давленой хвоей и выхлопами машин.
Мы остановились. "Ну и смрад! Вот буду рассказывать внукам, как хоронили генсека Андропова", — сказал Гаврилин.
День этот (я посмотрел в словаре) обозначен 9 февраля 1984 года. Умер Юрий Владимирович Андропов, не успев запретить Шукшина и не издав постановления, запрещающего жить писателям-деревенщикам, которое
готовилось очень серьёзно. Виктор Петрович Астафьев рассказывал мне, что о нём собрали компромата на 56 листах, вскоре началась его травля за публикацию рассказа "Ловля пескарей в Грузии". После смерти генсека Петрович ознакомился с подборкой компромата.
...Валера Гаврилин говорил: "Серьёзную музыку никто не хочет исполнять, слишком кропотливая работа. Слава Богу, пока есть хор Минина".
Через день Валера пришёл на "Мосфильм" и посмотрел мои документальные фильмы "Слово о матери" и "Мелочи жизни". После просмотра сказал: "Будешь делать другое, я тебе напишу фонограмму..." Вечером, уезжая, подарил мне пластинку "Перезвоны". И написал на конверте: "Дорогому другу Анатолию с любовью. В . Гаврилин."
Больше я его не видел". * * * Конечно же, согласившись писать серьёзно о Гаврилине, я сделал серьёзную же и ошибку. В чём была эта ошибка?
А в том, что у меня не было необходимых знаний по истории русской музыки. Когда я заключал договор с "Молодой гвардией" на целую книгу в серии ЖЗЛ, мною была проявлена излишняя самонадеянность. Мне было неведомо, как создавались две русские консерватории — питерская и московская. Конечно, я знал кое-что о "Могучей кучке", но я не знал, почему называли её "кучкой", то есть презрительно. Не знал, что у Михаила Ивановича Глинки была родная сестра Людмила Ивановна. Не знал, что Людмила Ивановна жила долго и всеми силами защищала достоинство и честь своего гениального брата, а заодно и честь всей русской музыки, следовательно, всей русской культуры. И, уж конечно, мне было неизвестно, что думал и говорил о консерваториях великий Мусоргский, как он переписывался с родной сестрой Глинки, о чём судил в переписке с композитором Михаилом Балакиревым.
И слава Богу, что ничего этого не знал я и не ведал! Иначе бы своим грешным присутствием подтвердил и узаконил всю неправду, всю ложь вокруг двух великих имён — М. И. Глинки и М. П. Мусоргского! Да, выходит, что и ошибаться иногда полезно... Не ошибись я тогда при заключении договора, никогда, никогда не узнал бы о письме Мусоргского Балакиреву, написанном 26 января 1867 года, в котором Мусоргский не щадит даже Даргомыжского, подписывает письмо и называет себя не Мусоргским, а Мусорянином. (Так велик ли грех Валеры Гаврилина, называвшего запись его музыки "консервированием"? Увы, и кое-какие слова Георгия Свиридова я узнал только-только...)
Письмо это не включено составителем Ю. Келдышем в основной текст книги "М. П. Мусоргский. "Письма и документы" "ввиду тех исключительно грубых и вульгарных шовинистических выпадов, которыми оно наполнено". Оно напечатано лишь в приложении на стр. 539—542 под № 57. Оставлю без комментариев слова Мусоргского о расходах и приходах Петербургской консерватории и то, что говорил о нём (о Мусоргском) Юрий Келдыш — родной брат того Келдыша, Мстислава Всеволодовича, который стал выдающимся математиком. Слова младшего брата Юрия о Мусоргском почти ругательные. Но обо всем этом я узнал только благодаря Владлену Чистякову, композитору и русскому патриоту из Санкт-Петербурга.
Да, горяч был Модест Петрович Мусоргский, не щадил никого ради художественной правды: ни чехов, ни поляков, ни немцев, ни евреев, ни даже себя! М. А. БАЛАКИРЕВУ
Питер. Кашин мост.
5 янв. 67 г.
"Здравствуйте, дорогой Милий.
Это послание начну с двух прелестных фактов: 1) Даргунчик опрохвостился в Москве с постановкой "Торжества Вакха" и опрохвостился жестоко. —
В "Современной Летописи" и в "Голосе" появились одновременно печальные отзывы о скучном "торжестве" Даргуна. — В первой: Даргуна упрашивают не надоедать публике своими старыми и негодными вещами и еще спрашивают: танцевали ли античные греки под французский галоп и пели ли французские польки? — В "Голосе" же фельетонист надрывается от смеха над 8-ю музами, играющими на сцене на кларнетах, причем 9-я муза ими дирижирует; что за Даргун! Что за безобразный Даргун! Всех 9 муз переродить в кларнетистов. —
2-й факт... но позвольте, дорогой Милий, отереть невольно выступающие слезы и несколько придти в себя от трепета сердечного и скрежета зубовного... О, алеманы*
(* Здесь — немцы (Ред.))! о, непреложно мерзкие алеманы! скорблю по мерзостям вашим и слезы лью: "векую есте (прохвосты вы этакие) промоталися, векую лепты народа русского-бестолкового разграбили!" Теперь пришел в себя и продолжаю. — Во вчерашнем номере "Голоса" появилась статья Ростислава о консерватории — изумительная статья. Начало ее — "медвежья услуга" консерватории; середина — "славословие великое" оной же консерватории; заключение — "нищенское выпрашивание у общества" (не русского музыкального, а всероссийского — слова Ростислава) поддержки [евреям] — алеманам**
(** В данном случае имеются в виду евреи, выходцы из Германии (Ред.)), тряхнувшим кисой через меру. — Дело в том, что Фифила Толстой, доказывая, что бюджет консерватории доходил в этом году толь к о до 25 тысяч, слезно уверяет, что алеманы издержали за 45 т., а издержали потому, что их никто не поддержал значительными денежными взносами. Что за дурак! До изумительной паскудности доходит Фифила (желая оправдать грабеж) в этих строках:
Директору (Тупинштейну) "всецело преданному" музыкальному делу — (заплочено) только всего 3500 р. Знайте, дескать, всероссийское общество, что хотя по моему мнению и много дают Директору, но ведь он всецело предан делу; знайте еще, что и все расходы консерватории шли таким же путем: каждому алеману платили всего только, ибо он необходим и всецело предан делу; каждому служителю необходимому уплата производилась также всего только — и служитель был всецело предан музыкальному делу. — Относительно прислуги я думаю, что Фифила прав; прислуга, вероятно, получала всего только.
Ты этого хотел, Жорж Данден, ты достиг своего! (фр. — Пер. ред.)
Алеманы хотели нажиться па счет русского кармана и притупить мало-мальски способные головы — нажились и притупили — только на долго ли? Фифила воет в своей иеремиаде, что дефицит в 20 тыс. в один год — Дамоклов меч, висящий над консерваторией; — милый Фифила, кабы твоими устами да мед пить — кабы м е ч этот перестал висеть в абсолютном значении слова. Тем не менее алеманы [евреи] отрядили почтенного музыкального критика в качестве печального герольда кликнуть клич по всей земле русской о поддержке 4 1/2 [евреев], обжирающихся на счет русских денег в питерской консерватории. Свиньи выбрали свинью, и вышло свинство; лучшей помощью для них было бы передраться (Венявский ушел, Рубинштейн уходит) и разойтись, чорт их подери с деньгами, а служителям, всецело преданым, всего только их след метлой замести.
Убирайтесь вон, господа! и с превеликим скандалом, но не без денег. (Пер. ред.)
—Решение скорое, правосудное нечеловечное. —
Цезарь в настоящее время приготовляет смертельный удар консерватории, — я посылаю ему по этому случаю статью Ростислава — может, она ему и пригодна будет для справок. — Из писем Ваших, дорогой Милий, к Людмиле Ивановне я убедился, что против Вашей деятельности в Чехии интригуют, и представил себе Ваше положение, но из писем к Цезарю я убедился в том, что если Вам не особенно хорошо теперь, то было чорт знает как гадко. — Признаюсь, когда Вы уехали в Чехию, я думал и знал, что приветливые
вызовы, неоднократно посланные Вам, принадлежат меньшинству отборных людей, — так должно было быть — так и оказалось, но я заблуждался в степени влияния этих людей на чешский люд. Оказывается, что из всех двуногих чешских скотов едва тройку можно подобрать таких, которые имеют право принадлежать к человеческой породе. — И как назло Вашему приезду в Прагу, пшепшетался туда пан Монюшко с своими католическими операми. —
Это совокупление польской клики с алемано-коисерваторской тупостью представляет для меня плод, равный рвотному камню. Как бы я был рад, если бы после Вашего управления "Жизнью за царя" и "Русланом" оперы эти (по крайней мере, первая из них) произвели впечатление на публику и все эти Сметаны, Шорники, Прохвостки или Прохаски и Гнилушки подавились бы своими собственными средствами — черт бы их драл! — Впрочем, все это хорошо только говорить, пожалуй и писать, а дела тут все-таки нет. — Архимед придумывал рычаг своей системы, чтобы можно было повернуть земную ось, и был убит римским солдатом, — но если б Архимеду предложили повернуть на надлежащий путь чешские мозги, то он бы лопнул с досады и не был бы убит римским солдатом. — Неужели нашей музыке определено замкнуться границами: к западу морской линией Балтийского моря, Пруссией, Галицией и т. д., к югу Чёрн. морем и т. д. к Востоку, Северу, — словом, по географии. — Неужели даже, когда-то в одноплеменных нам землях, наша народная музыка непрививаема? Заметьте, что во всей Европе относительно музыки царят и заправляют два начала: мода и рабство. У англичан выписываются певцы и исполняются вещи, подчас и те и другие отчаянные — там на первом плане мода. У французов — впрочем у французов канкан и избавьте нас от г-на Берлиоза! Испанцев и итальянцев с турками и греками в сторону. — У немцев наилучший и убедительнейший пример рабства музыкального; обожание консерватории и рутины, — пиво и вонючие сигары, музыка и пиво, вонючие сигары и музыка на лоне природы. — Немец способен написать целый трактат о том, что Бетховен такую-то черненькую написал хвостом книзу, а не вверх — как это бы следовало по правилам; немец — раб признанного им гения, никак не может себе представить, что Бетховен, за скорописью, мог ошибиться и не обратить внимания на пустяк. — Эта тупая и отпетая сторона пивного брюха с молоком и сладким супом отвратительна в истых, коренных немцах, но еще поганее в рабах рабов — чехах, не желающих иметь своей физиономии. — Всю эту канитель я наплел, дорогой мой Милий, потому, собственно, что ярость меня взяла за Ваше положение между этими скотами, что задор меня берет обрезать немцу, итальянцу — [еврею] (все равно) у нас на Руси, путь к облапошиванию добродушных русаков. — Вернее характеризовать чехов, как это сделали Вы, невозможно — хотя Ваша характеристика и идет от музыкального воззрения на них. Но в том-то и дело, что заставьте меня петь (не в шутку) лидеры Менделя, я из мягкого и лощеного превращусь в грубияна и человека без всякого лоска. — Заставьте русского мужика полюбить какие-нибудь народные песни протухлого немца — он не полюбит их. Предложите (не заставляйте — заставить можно немецкого чеха австрийского плевка съесть — и съест), предложите чеху усладить свою душу немецкой тухлятиной — он усладит и скажет громко, что он славянин. — Так понял я чехов из Ваших отзывов, и эта мертвечина туда же задорится славянские вещи слушать! славянской музыки требовать! Вот почему Ваша музыкальная характеристика Чехляндии верна и не в музыкальном отношении. — Народ или общество, не чующие тех звуков, которые, как воспоминание о родной матери, о ближайшем друге, должны заставить дрожать все живые струны человека, пробудить его от тяжелого сна, сознать свою особенность и гнет, лежащий на нем и постепенно убивающий эту особенность, такое общество, такой народ мертвец, а отборные люди этого народа, доктора, заставляющие посредством насильственного электрогальванического тока, дрыгать члены этого мертвеца-народа, пока он не перешел в химическое разложение трупа. — [Евреи] подскакивают от своих родных, переходивших из рода в род, песней, глаза их разгораются честным, не денежным огнем — я сам тому был не один раз свидетелем.— [Евреи] лучше чехов — наши белостоцкие, луцкие и невельские [евреи], живущие в грязи и смрадных лачужках. — Могут сказать, что славянский звук не дошел до славянской души, потому что Сметана испростоквашил этот звук? Неправда! не мог он настолько искалечить всю оперу, чтобы не нашлось в ней живого места, которое бы заставило встрепенуться живого человека. Мертвецы сидели в театре, мертвец управлял оркестром мертвых, и Вы, дорогой мой, попали на пражскую забаву выходцев с того света. Живой меж мертвых! Делю Ваше мрачное положение, дорогой Милий, и гордиться буду, милый мой, если Вы их — этих мертвецов — хоть на час оживите. Давай Вам Бог, еще раз и еще раз давай Вам Бог. — Крепко, крепко целую Вас, милый — до следующего в скором времени послания.
Ваш Модест".
Любопытен комментарий Ю. Келдыша к этому письму. "Обозначаемое нами под номером 51 и датированное 26 янв. 1867 г. письмо Мусоргского к М. А. Балакиреву не включено издательством в основной текст настоящей книги ввиду тех исключительно грубых и вульгарных шовинистических выпадов, которыми оно наполнено.
Общий тон письма характерен для настроений всей балакиревской группы в тот период и для ее отношения к различным музыкальным направлениям и группировкам. Кроме фраз по адресу немцев, евреев, поляков в нем содержится несколько фраз и по адресу Даргомыжского, который впоследствии почитался балакиревцами наряду с Глинкой как один из их учителей и предшественников, но в более ранний период нередко бывал мишенью всевозможных насмешек и иронических острот с их стороны.
Приводим здесь полностью первый абзац настоящего письма, в котором Мусоргский не без злорадного ехидства сообщает о неблагосклонных отзывах прессы по поводу новой постановки одного из произведений Даргомыжского. {Опущено редакцией. См. основной текст.]
В этих строках идет речь о лирической опере-балете А. С. Даргомыжского ("Даргунчик", "Даргун"), которая была поставлена впервые 11 января 1867 года в Москве (отрывки из нее исполнялись в петербургских концертах значительно ранее). Говоря об отзывах прессы, Мусоргский имеет в виду статью Н. Пановского "Вчера, сегодня, завтра", помещенную в № 4 "Современной летописи" (воскресное прибавление к "Московским ведомостям" от 22 января 1867 г.), и статью, подписанную С. П. в № 24 газеты "Голос" от 24 января того же года.
Подобные приведенному здесь иронические замечания о Даргомыжском рассыпаны по целому ряду писем. Подлинную сущность отношения Мусоргского к Даргомыжскому вскрывает одно из его более поздних писем к Н. А. Римскому-Корсакову (№78).
"2-й факт", сообщаемый Мусоргским в письме, — это статья музыкального критика Ростислава**
(** Феофил Матвеевич Толстой (1809—1881) ("Ростислав"), музыкальный критик, литератор и композитор. Его романсы пользовались успехом в салонах. С 1850 г. стал печатать свои критические статьи в "Сев. пчеле", и др. период, органах. Здесь он заявил себя сторонником итальянской оперы. Позднее он явился одним из панегиристов А. II. Серова)
"По поводу выпускных экзаменов, происходивших в декабре 1866 г. в Санкт-Петербургской консерватории", напечатанная в "Голосе" № 25 за 1867 год. "Во вчерашнем номере "Голоса" появилась статья Ростислава о консерватории — изумительная статья, — пишет Мусоргский. — Начало ее "медвежья услуга" консерватории"... Эта "медвежья услуга" заключалась в опубликовании некоторых данных о материальном состоянии консерватории, показывавших дефицитность ее бюджета. Вот выдержка из статьи Ростислава, содержащая эти цифровые данные:
Приход от щедрот ее им. высоч. до .... 6 000 рублей
плата с учащихся до ....................... 20 000
остаток от концертов до .................... 1 000
Всего............. 27 000 рублей
Расход на вознаграждение директора, всецело посвятившего себя общественному делу, не более 3 500 рублей, на вознаграждение инспектора, профессоров, на содержание, на отопление и освещение дома и на жалованье необходимой прислуги всего до 47 000 рублей. Следовательно, в предстоящем году общеполезное учреждение это... может рушиться из-за недостатка средств, так как над ним висит Дамоклов меч, называемый дефицитом".
Конечно, балакиревцы, непримиримо враждовавшие с представителями "академического" направления в русской музыке, которые были объединены вокруг ими же созданной консерватории и возглавляли ее, — не могли пройти мимо такого случая. Мусоргский дает явно пристрастное толкование опубликованным в статье Ростислава сведениям, пытаясь их использовать для того, чтобы скомпрометировать руководителей консерватории (он довольно прозрачно намекает на совет профессоров, в состав которого входили Заремба, Давыдов, Дрейшок и Лешетицкий): "векую лепты народа русского-бестолкового разграбили". В той ожесточенной, подчас принимавшей весьма резкие и Грубые формы, борьбе, которая велась между "новаторами" национально-русской школы, с одной стороны, и консервативной "профессорией" — с другой, не пренебрегали никакими поводами для нападения на врага и подрыва его престижа. "Цезарь (Ц. А. Кюи) в настоящее время приготовляет (смертельный удар. — Ред.) консерватории, — пишет Мусоргский, — я посылаю ему по этому случаю статью Ростислава — может, она ему и пригодна будет для справок".
При этом антагонизм, выросший на основе разногласий художественно -идеологического порядка, обострялся еще благодаря привносимому в него балакиревской группой национальному моменту. Главными деятелями консерватории действительно были немцы или евреи, в большинстве своем тоже музыканты с немецкой ориентацией. На этом было удобно спекулировать. Нужно здесь отметить, что именно в тот период, к которому относится настоящее письмо Мусоргского, среди членов балакиревского кружка процветали славянофильски-шовинистические тенденции, в чем, по-видимому, сказывалось в значительной степени влияние вождя и основателя "новой русской музыкальной школы", несколько лет спустя пришедшего к открыто-черносотенному православно-поповскому мракобесию. Политическая реакционность этих тенденций в некоторых случаях вполне очевидна: так, например, чрезвычайно ярко выражено в балакиревской группе середины 60-х годов полонофобство*
(* Римский-Корсаков в этом отношении стоит особняком. См. "Летопись", 3-е изд., М., 1928, с.
61). Отношение к "польскому вопросу" являлось в то время пробным камнем для определения общих политических позиций. Мусоргский как раз в эти годы был очень близок с Балакиревым и несомненно находился под сильным его влиянием. Это видно хотя бы из одинакового тона, проникающего целый ряд писем, адресованных Балакиреву. (...) Шовинистические элементы в общественных воззрениях Мусоргского не могут быть, конечно, целиком отнесены за счет балакиревского влияния. Ему самому были присущи многие черты реакционной дворянской идеологии. Однако несомненно, что в данном случае высказываемые Мусоргским суждения характеризуют не столько его личные взгляды и настроения, сколько общую атмосферу, существовавшую в балакиревском кружке.
Получив толчок, Мусоргский входит в азарт и начинает под горячую руку "разделываться" со всеми, кто ему попадается. После немцев и евреев он переходит к чехам и полякам. Поводом служит для пего отношение некоторых чешских кругов к Глинке. Балакирев, находившийся в это время в Праге, писал Л. И. Шестаковой оттуда 3 января 1867 г.: "Все проволочки "Руслана" и "Жизни за царя" происходят от Сметаны, который, оказывается. . . интриган
и ненавидит музыку Глинки и называет ее татарской. Он принадлежит к партии полонофилов и свою ненависть к России перенес бесчестно и на искусство". Ей же от 11 января 1867 г.: "Главные коноводы всех здешних мерзостей — поляки, во множестве живущие здесь, уже успели сформировать целую коалицию из чехов — противорусскую". Рассуждения Мусоргского о поляках и чехах, мало чем отличающиеся от предыдущих тирад по адресу немцев и евреев, являются прямой реакцией на эти письма Балакирева. (...) Здесь чувствуется отклик на те затруднения, которые приходилось испытывать Балакиреву в связи с пропагандой русской музыки, ущемлена гордость за свое национальное искусство. (...)
Конечно, в оценках западноевропейской музыки, которые дает Мусоргский, не приходится искать какой-либо объективности, но в некоторой последовательности ему нельзя отказать. Так, например, больше всего отталкивают его мещанская узость, поверхностный формализм, рутина и бессодержательность, господству этих черт он приписывает тот факт, что русская музыка не встречает живого отзвука в западноевропейских странах. (...)
Однако среди потока бессмысленно-враждебных выпадов и плоских обывательски-ограниченных рассуждений* мы встречаем здесь отдельные интересные мысли, в которых проявляется сильная художественная индивидуальность Мусоргского. В это время у Мусоргского уже складывается характерное для его народнических устремлений представление о народности как о некоем внутреннем единстве, движимом общностью чувства, мыслей и воли. Если же этого единства нет, или оно не сознается, то народ вырождается, такой народ мертв, творчески бесплоден и обречен на разложение. (...)"
Спасибо Ю. Келдышу хотя бы за то, что он привел это письмо полностью. Но нас интересует другое: если такая ситуация была в российской музыке во времена "Могучей кучки", то с чем же столкнулся в 60—90-е годы прошлого века бедный Гаврилин? ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Творцы и скоморохи
А может быть, всё позади —
И пыль, и дорожная слякоть,
И пепельные дожди,
И цепи, уставшие звякать.
Но делать привал погоди!
Авось и поверишь в иное,
Что, может быть, всё впереди —
И солнце, и звёзды с луною! Леонид Мартынов
Гаврилин едва терпел демагогов и притворщиков-лицемеров как в искусстве, так и в повседневном быту. Можно ли объяснить сие обстоятельство свойствами гаврилинского характера? Конечно, можно! Не только можно, а нужно. Всё жизненное поведение человека вытекает из характера. Взаимосвязь тут исключительно прочная. Особенно любил он буквально во всём идеальную чистоту: в еде, в одежде, в отношениях с людьми и даже в своём неправильном (наклон справа налево) почерке. А у матери Клавдии Михайловны был хороший почерк.
Валерий в любом человеке кожей чувствовал неискренность, чуял проявленную этим человеком фальшь или лживость. И это, видимо, тоже свойство таланта...
К сожалению, в поэзии он был не всегда разборчив и щепетилен, как Георгий Васильевич Свиридов. В Ленинграде Гаврилина весьма плотно окружили евреи, они, видимо, превосходно чуют запах таланта. В последнее десятилетие своей жизни Валерий Александрович сочинил великолепную музыку к пьесе
"Женитьба Бальзаминова". Но многие его питерские знакомые попросту даже не знали, чья это пьеса! Одни называли автором Гоголя, другие Чехова, третьи Тургенева, четвёртые Лескова. !
До Островского ли тут, до Гоголя или Чехова, если надо бежать, если срочно нужна какая-нибудь виза, хоть какой бы штамп в паспорт тиснуть, потом после побега разберёмся, куда дальше бежать... Впрочем, такие люди и обратно, бывает, бегут, хлебнув досыта заморских свобод...
Обо всём этом Валерий Гаврилин великолепно знал. В подтверждение этого приведу ещё одно письмо, адресованное мне:
"Мой любимый писатель и друг! Любезный Василий Иванович!
Прими в подарок эти музыкальные консервы. Рад бы ещё чего-нибудь, да на "Мелодии" меня не "консервируют" уже много лет, а артисты, как известные существа с тонущего корабля, бросились спасаться по Европам и Америкам. Что с нами будет?!
С любовью, твой В. Гаврилин. 5 сентября 1969 г.".
Многовато прошло времени, я уж забыл, какую плёнку, с какими "консервами" присылал мне Валерий... Кассет с записями у меня довольно много.
Стало наконец широкому кругу слушателей и читателей доступно и то, что говаривал о музыке, о политике и о самом Гаврилине незабвенный Георгий Васильевич Свиридов. И тут поблёкли многие слова из книги С. Волкова, выпущенной ещё при жизни Валерия. Я имею в виду выступления В. Арзуманова, С. Баневича, Г. Банщикова, Г. Белова, Б. Тищенко. Сам В. Гаврилин тоже выступал в этом сборнике, но выступал значительно скромнее всех остальных.
Г. В. Свиридов так писал о Гаврилине:
"Я думаю, что музыка Валерия Гаврилина будет жить долго. Она принадлежит к тем редко появляющимся произведениям искусства, в которых с высоким совершенством запечатлена правда жизни".
Та правда жизни, о которой говорит Г. В. Свиридов, проявилась у Гаврилина в первом же, ставшем широко известном вокальном цикле "Русская тетрадь". Это сочинение композитор написал ещё будучи студентом Ленинградской консерватории. Его исполнение музыкальная критика единодушно оценила как выдающееся событие в советской музыке. В 1967 году за "Русскую тетрадь" В. Гаврилину была присуждена Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки.
"Глубокий интерес художника к миру сильных и чистых человеческих чувств, подлинное ощущение драматизма, а порой трагедийности, чуткость к проявлениям человеческих радостей и страданий — вот что привлекает нас в музыке Гаврилина. Композитор живёт жизнью каждого своего героя, и как всякое искусство, идущее от сердца, оно легко находит путь к сердцам слушателей". Всё это говорено Г. В. Свиридовым.
А вот что писал Гаврилин о Свиридове:
"Если бы меня вдруг спросили, какое значение имеют для человечества мои папа и мама, я ни в коем случае не нашёл бы ответа. Они меня родили, и я их люблю, а как к этому относится человечество — не знаю. Я не смог бы также объяснить мирового значения тысяч вещей и явлений — ни берёзок, ни полей, ни закатов, ни колокольного звона, ни длинных неухоженных русских просёлков. Всё это — моя Родина, это моя живая душа, моя страна.
И есть в этой стране чудо, значение которого я тоже не могу объяснить. Я благоговею перед ним и люблю сильно и бесконечно, любовь эту можно отнять от меня, лишь отняв душу. Я говорю о музыке Свиридова.
Я вникаю в суть свиридовских "педалей". Один звук, всего один звук, один жест. Но как он велик, объёмен, многозначен, как он играет, сколько в нём речи, собранного человеческого чувства! Такой звук иногда стоит целой симфонии, целого романа, целого театрального действа. Он то круглый и крупный, как шар, и звенит колоколом, то вдруг расстилается и становится бесконечно длинным и грустным, как деревенская дорога или косяки улетающих в тёплые страны гусей. Музыка Свиридова — не испепеляющий огонь, не с ног валящий шквал, не уютное одеяло, не грелка к ногам. Она представляется мне тысячью бриллиантовых, направленных прямо в сердце слушателя стрел, а сам композитор — каким-то "драгоценщиком". Чувство "драгоценного" развито у него невероятно. В работах Георгия Васильевича нет проходного, заболтанного материала или материала "взаймы". Он отыскивает только самый дорогой, редкий и прекрасный. Свиридов может быть язвительным, лукавым, страстным, но он всегда лучезарен, светоносен. Это тот ясный, холодноватый свет, каким светят только высокие и большие звёзды. Мир, отражённый в бриллиантах звуковых стрел, входит в душу слушателя по-особому чистым, свежим, трогательным, чуть-чуть недосягаемым и оттого ещё более щемящим.
Свиридов силён своей близостью к русскому фольклору. В наше время, к сожалению, немало авторов обращается к созданному народом с непременной целью отыскать что-то такое, что могло бы послужить удовлетворению их творческого эгоизма. Не таков Свиридов. Благородная философия народного творчества вошла в само его художническое существо. Отсюда — сдержанность в выражении чувств, в применении средств, отсутствие крайних состояний, экстаза, истерики, отсутствие чисто музыкальных преувеличений, никакой навязчивости, давления на слушательское сознание; вообще никакого тщеславия, никакой роскоши, никакого художнического размахивания кулаками или "культуризма". Сколько ни слышал я за свою жизнь самых трагических крестьянских песнопений, никогда не было в них надлома, изуродованного духа, а, напротив, был прямой открытый взгляд на трагедию, но взгляд этот не погрязал, не застывал в ней, а шёл дальше, через неё: нужно продолжать жить. Эта высшая вера, этот мудрый оптимизм, мужественность стали главнейшими средствами музыки Свиридова.
Он не кричит не оттого, что нет голоса: он умеет говорить тихо. Он не плачет не оттого, что слез нет: не слезами жизнь держится. Он не ищет сочувствующих. Он показывает красоту.
...Он блестящий поэт, Свиридов. Есть у нас прекрасные композиторы — трагики, драматурги, романисты, а поэт, я думаю, один.
Часто обвиняют Свиридова в профессиональной отсталости. Мало-де у него полифонии, выдумки, всяких расширений, сокращений, увеличений и других премудростей музыкальной игры. Это так в самом деле. Свиридов очень мало пользуется этой общецеховой техникой. Кстати, как до него Мусоргский. Для выполнения задач, какие Мусоргский ставил перед собой, она была просто не нужна. Поэтому считалось, что техники у него никакой нет. Упрекать Свиридова — значит так же точно не понимать, что делает этот неповторимый и в то же время внове повторяющийся — как сама природа — музыкант.
Предлагать Свиридову какое-то иное оснащение, чем то, без которого он не может обойтись, — всё равно, что предлагать красить лютик акрихином, поставить ласточке пропеллер или вмонтировать лебедю паровой котёл. У него — свои крылья.
Мир музыки Свиридова хочется назвать заповедным. Здесь по-рыцарски нежно берегут вечно необходимое. Ненужное тоже может жить вечно...
...Он для меня — не океан, куда впадают реки с громкими именами. Пусть он будет лесной ручей, питаемый безвестными подземными ключами. И если какой-нибудь усталый путник, случайный прохожий набредёт на него, ручей доставит жаждущему нечаянную радость и напоит его влагой, какую он не будет пить ни в каком другом месте.
Не знаю, имеет ли это мировое значение...".
А вот мнение В. Гаврилина о другом музыканте: "От Стравинского нет спасения. Его художнические зубы растут подобно крысиным: бесконечно, и нет той музыкальной ткани, которая бы избежала их вгрызаний. У него нет иного выхода — не бросайся он на всё подряд, его задушат собственные зубы. ...Прочёл сегодня "Поэтику" И. Ф. Стравинского. Какая дремучая непролазная мудрость! Какая изуродованная, одичавшая в своём одиночестве личность! Как страшно! Мессия, которому нечему учить, мессия, не желающий кончины, мессия, бегущий от креста, мессия, не желающий быть распятым. Жизнь, как страшно ты его наказала!".
В произведениях самого В. Гаврилина вы услышите произведения разных жанров. Это и монументальные музыкально-сценические "Скоморохи" — "представления и песенки из старой русской жизни", в котором очень ярко проявился драматический и сатирический дар композитора. Это и вокально-симфоническая поэма "Военные письма", развивающаяся по законам музыкальной драмы. Это и фрагменты вокально-инструментального цикла "Земля". Это, наконец, небольшие песни-баллады, многие из которых можно назвать жемчужинами советской песенной лирики ("Скачут кони", "Любовь останется", "Два брата"...). В общей оценке этих вещей я согласен с Висковым. В центре внимания композитора находится музыка, связанная со словом. Отсюда и главенствующая роль интонации живой человеческой речи. Владея всеми секретами современной композиторской техники, Гаврилин часто совсем отказывается от инструментального сопровождения, целиком доверяя голосу. И какой же силой воздействия, какой яркой интонацией обладает распетый им стих!
Интересно высказывание самого Валерия Александровича: "Один замечательный композитор говорил, что симфония — царица музыки, а я подумал, что, может, симфония и царица, но царь в музыке — это человеческий голос, пение. Это основа основ всей музыки. Трудно представить, как сохранилось бы музыкальное искусство, переходило бы из века, в век, если бы каждый человек каждую минуту не имел бы наготове этот волшебный музыкальный инструмент, ведь в сравнении с ним оценивают красоту инструментов рукотворных".
Музыка Гаврилина рождает у пас чёткие зрительные образы. Это свойство его дарования позволило В. Гаврилину стать одним из самых популярных театральных композиторов. Он работает во многих театрах со многими режиссёрами: в БДТ им. Горького с Г. Товстоноговым, в ТЮЗе с 3. Корогодским, в Театре им. Ленинского комсомола с Г. Опорковым...
Как правило, в театральную музыку входит ранее накопленный композитором материал, а спектакль становится поводом для вынесения его на суд зрителей-слушателей. Но потребность в более глубоком, более самостоятельном проникновении в тему приводит обычно к рождению нового оригинального музыкального сочинения. Так, из музыки к спектаклю ТЮЗа "Думая о нём" возник вокально-инструментальный цикл "Земля", посвящённый, как и спектакль, памяти рязанского героя-комсомольца Анатолия Мерзлова, а музыкальный материал спектакля "Три мешка сорной пшеницы" лёг в основу вокально-симфонической поэмы "Военные письма".
С В. Гаврилииым постоянно работали такие исполнители, как Т. Калинченко, М. Пахоменко, Л. Сенчина, Э. Хиль, А певица Лина Мкртчан (но она не упоминается нигде: ни в эфире, ни в рекламе). Почему?
В гаврилинской книге много, очень много интересных мест! Может быть, поэтому ленинградские книготорговцы и постарались сделать так, чтобы книга никогда не попала на глаза русскому читателю.
150—151-я страницы очень важны не только для характеристики творчества В. Гаврилина, но и для характеристики бытовой, то есть семейной жизни. Впрочем, разве не спаяны накрепко семейная жизнь и творчество? Конечно, корреляция здесь безусловна. Вероятно, как раз в тот период, к которому относятся эти записи, Гаврилин сделал серьезную попытку самоубийства*
(* Говоря о попытке самоубийства В. А. Гаврилина, уважаемый автор пользуется сведениями, почерпнутыми из неизвестных редакции источников. Поэтому нам трудно судить об их достоверности (Ред.)). Он уже стоял на подоконнике, пытаясь выброситься с высокого этажа: жена и тёща не дали прыгнуть. Помню, в свое время об этом говорило пол-Вологды. Понятна теперь и эта стихотворная строчка: "Научи меня, лес, умирать, беспечально, как ты, увядать", и чуть ниже такая фраза: "Уходят, кончаются люди, с которыми я жил в одно время. Это я ухожу по частицам. И я оплакиваю их, я оплакиваю себя — скоро, очень скоро уйдёт и последняя частица, уйду весь я, последний раз вобрав воздух этой земли и выдохнув его обратно — на память своим наследникам по шарику...".
Вспомни, читатель, какое звучит отчаяние в гаврилинских звуках, в таких песенных заклинаниях: "Простите, простите, простите меня!" Мороз по коже.
Человек с миром прощается, прощается со всеми, со всеми дорогими ему людьми, прощается, да ещё и просит: "Забудьте, забудьте, забудьте меня...".
О, сколько боли, сколько тоски в этих словах и звуках, слившихся с такими словами! Невыразимо прочное слияние слов и музыки, доказательство полнейшей искренности и поэта, и музыканта, объединённых в одном лице. Это и есть Валерий Александрович Гаврилин!
И хочется плакать, потому что жаль, потому что нет его, потому что все мы живы, а Валерия-то нет... Но ведь нет ни Глинки, ни Мусоргского, нет ни Тютчева, ни Пушкина, ни Шаляпина нет, ни Саврасова... А почему всё-таки все они есть? Все присутствуют в нашей жизни, присутствуют они, присутствует и Коля Рубцов, и Валера Гаврилин. Чем ещё убедить в этом неверующего человека, кроме их достоверного духовного присутствия?
В своё время, предваряя публикацию о первой посмертной гаврилинской книге, я писал так:
"Глубоко трагична судьба Валерия Александровича Гаврилина. Его сердце остановилось в январе 1999 года, а родился он в августе 1939, не прожил и шестидесяти лет... Мы не осознали ещё, кого потеряла вологодская земля, да и вся Россия в ту зиму.
Петербургское издательство "Дума" неожиданно порадовало книгой Валерия Александровича. Сборник называется "О музыке и не только". Один из составителей с полным на то правом называет нашего земляка "блистательным писателем, глубочайшим в европейской культуре мыслителем". Трудно не согласиться с подобной характеристикой Гаврилина, данной его приятелем В. Максимовым. Да, к известным всему миру композиторским талантам посмертная книга добавила еще и талант мыслящего писателя, весьма чуткого к русскому слову. В этой книге Валерий Гаврилин предстоит то парадоксально и глубоко мыслящим философом, то критиком, то лирическим поэтом, иногда даже сатириком. Последнее свойство проявлялось в тех случаях, когда Валерий Александрович сталкивался с пошлыми явлениями, кои его чистая душа не могла выдерживать. В этих случаях его острый парадоксальный ум делал сильнейшую эмоциональную разрядку, что выражалось в довольно "крутых", по-гаврилински резких словах. Национальное, то есть истинно русское, отношение к языку, к народному быту и творчеству, ко всей российской истории могло бы сделать Валерия превосходным поэтом или прозаиком. Он же стал музыкантом, сочинителем новой музыки. Так прихотлива, непредсказуема жизненная дорога каждого детдомовца, ребёнка, лишённого родителей.
В своё время я сравнивал Гаврилина с Рубцовым. Думаю, что имена эти соразмерны, по крайней мере по таланту. И это подтверждает вышедшая книга записей композитора. Конечно, Гаврилин при жизни и не предполагал, что каждое его слово будет востребовано. Если б предполагал, то, может, записи эти были бы сделаны не на клочках бумаги. Но даже из таких отрывочных записей выявляется полнокровный и сложный облик человека, целиком посвятившего себя искусству.
То, что Гаврилин был плоть от плоти народной, доказывает его отношение к отвратительным проявлениям нынешней нашей национальной жизни (например, массовому пьянству). Боль за судьбу народа, за судьбу России сквозит буквально в каждой случайной записи, в каждом слове. Вообще-то у Гаврилина не было ничего случайного ни в поведении, ни в творчестве. Стихи, высказывания о народной музыке и фольклоре, критические экспромты, касающиеся политической и общественной жизни, — всё это есть в его в книге. Не терпел он грязи и пошлости ни в быту, ни в профессиональных своих занятиях. Эта грязь и пошлость больно ранили его отзывчивую сиротскую душу, начиная с детдомовских лет и до самой смерти.
Контраст между могучим творческим потенциалом и приземлённым бытом, поистине трагическим на протяжении всей его короткой жизни, ощущается чуть ли не в каждой строке книги "О музыке и не только".
Записи, отобранные вдовой Н. Е. Гаврилиной и В. Г. Максимовым, подчас отрывочны, слишком лаконичны, а иногда и не очень понятны или понятны только тем, кто был духовно близок автору. Людям, не ведавшим, как он жил, в каких условиях создавал музыку, не всё будет понятно. Но у тех, кто
более-менее был близок Гаврилину, останется ощущение неполноты, ограниченности публикуемой части текста... Это как океанский айсберг, кочующий в безбрежных и неспокойных водах: видно одну небольшую верхушку, а главная масса, основной объём скрыты под водой. Мы можем лишь вообразить, представить то, что не видим. Несмотря на ощущение неполноты, надо поблагодарить составителей за отобранный материал, непосредственный, живой и так необходимый всем, а не только узкому кругу музыкантов...
Народ русский Гаврилин великолепно знал и любил, и этот народ питал его разносторонний, в основном музыкальный талант. Вот что хотелось мне сказать для начала о его книге, избранные места из которой публикует сегодня " Наш современник ".
...Сейчас я с полным правом могу заявить, что всё выше сказанное подтвердилось с лихвой, кроме одного: никаких правдивых книг о Гаврилине, увы, не появилось. И напрасно надеяться нам, что они появятся в ближайшем будущем. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Звёздный период
Ах, заколот вещий лебедь
На обед вороньей стае.
"Песнь о великой матери" Николай Клюев Песня – путь к спасению души. Вадим Кожинов
Великая стихия русского фольклора не поглотила Валерия Гаврилина. В этой стихии немудрено было и утонуть. Он выстоял, не позволил раствориться в этой стихии своей индивидуальности.
Как и Г. В. Свиридов, он ничего не пропускал мимо ушей, впитывал всё вплоть до мелочен, запоминал. А если явление касалось музыки, народной жизни, народного быта, тут уж особенно.
В русском фольклоре существует феномен частушечного народного творчества — так называемые частушки-нескладухи. Не знаю, как их называет учёная братия, наверное, как-то называет. В пароде же они называются очень просто — "нескладухи". Так что это за феноменальное явление — нескладуха? Можно ли выделить его в музыкальный жанр, и в чём своеобразие этого жанра? По моим понятиям, это такая частушка, то есть живое народное явление фольклора, которое имеет страшное двоякое свойство. С одной стороны, частушка поётся (факт музыкальный), с другой стороны, сё словесное выражение нелогично, несуразно, даже нелепо, — это факт словесный.
Валерий Александрович Гаврилин с детства, с перхурьевского периода, знал этот странный частушечный жанр. Увлекался он нескладухами и во время своей псковской практики.
Отразилась ли нескладуха в гаврилинской музыке? Мне думается, что отразилась. Например, в таком оригинальном произведении, как "Женитьба Бальзаминова". Юмористические вкрапления в музыку к пьесе Островского очень и очень заметны, особенно при безукоризненном дирижировании В.
Петрушенко.
Разумеется, они, нескладухи, относятся к смеховой культуре нашего парода. Таких нескладух я могу вспомнить десятки. Сидит заяц на берёзе
При калошах, при часах.
Я спросила, сколько время.
"Неженатый, холостой". Или: Ягодиночка-то мой
Пал в колодец головой,
Я молоденькая девочка
Хоть сверху погляжу. Ещё: Вы пляшите, руки-ноги,
Выкамаривай, язык.
Не скажу, в какой деревне
Есть беременный мужик. Разберём хотя бы последнюю нескладуху. В чём её смысл? О, в ней много смысла! Во-первых, смысл в том, что в ней нет никакого смысла, никакой логики. Что значит — "беременный мужик"? Разве так бывает? Бывает. С точки зрения крестьянина, полно беременных: министры, депутаты и т. д. Издевательское, смешное отношение к начальству тут налицо. Правда, православное, народное снисхождение сказывается даже тут (не скажу, в какой деревне). Что выкомаривает язык весёлого, может быть, подвыпившего мужика или парня, понятно и без разбирательства. На мой взгляд, тут звучит и вызов обычной логике (рационализму), не злое, не едкое издевательство над слишком учёными, мудрыми, безошибочно рассуждающими. Так имеется ли хоть какой-то смысл в такой нескладухе? А ведь её ещё поют во время пляски, значит, этот смысл удваивается или утраивается. Нескладуха — это такой род фольклора, который родственен анекдоту, бухтине, весёлой выдумке. Он объясняет народные пословицы типа: "Не делай добра, ругать не будут". Казалось бы, выражение абсолютно антиправославиое, антихристианское, а вдумаешься — просто смешливый вздох.
Послеконсерваторский период богат для Валерия Александровича не только музыкальными творческими достижениями, но и знакомством с иными краями, например поездкой в Прибалтику, на юг, в Смоленск и другие места. Не зря же он считал, что у него мало опыта, мало жизненных впечатлений. Он никогда не упускал возможности съездить куда-либо, побывать в новых местах. Но особенно его тянуло в места, связанные с детством.
Смоленский вояж и выступление во время чествования М. И. Глинки дали ему новый творческий импульс... Гаврилин считал Михаила Ивановича Глинку основоположником всей русской музыки. О том, что в опере "Жизнь за царя" с наибольшей силой воплощена певческая стихия нашего народа, Валерий прекрасно знал и до поездки на родину великого русского композитора... Эти поездки и выступление перед общественностью волновали Валерия Александровича, вдохновляли на упорный труд. Он ещё сильнее утверждался на своих эстетических основаниях...
Подобно Георгию Свиридову, Валерий Гаврилин был православно верующим. Это обстоятельство ни у кого не должно вызывать сомнений. Один ныне здравствующий исполнитель Гаврилина рассказывает о примечательном эпизоде во время прогулки за город: "Улица незаметно кончилась, оказались в поле, среди зелени и диких цветов, которые Валерий так любил рисовать в детстве. На пути оказалась маленькая сельская церквушка. Валерий зашёл в храм и долго молился в одиночестве...".
Поездка по Волге, по родным материнским краям живо вспоминалась ему до конца дней. Были поездки на Украину и в Среднюю Азию. Иной раз он кратко фиксировал свои дорожные впечатления. Но особенно дорогими для него были поездки на вологодскую родину. Город Кадников, озеро Кубенское, деревни Перхурьево и Воздвиженье волновали Валерия Александровича до слез.
Вскоре после практики Валерий с помощью жены бросил, наконец, курить. Появились первые авторские концерты, написал он вокально-симфоническое произведение "Военные письма" и получил премию Ленинского комсомола. Концерты в Ленинградском Большом зале филармонии и в Большом зале Московской консерватории обрадовали и вдохновили его. По ТВ показали о нём фильм. В 1983 году родилась первая внучка.
К сожалению, вместе с этими творческими достижениями и бытовыми переменами Валерий Александрович ощутил первые признаки нездоровья. Хоровую симфонию "Перезвоны" (по прочтении В. М. Шукшина) он создавал как раз в этот период.
Вероятно, в те дни он записал слова о потерянности и начал впервые думать о самоубийстве. Об этом периоде много могла бы рассказать Наталья Евгеньевна, но она слишком тщательно хранит семейные тайны... Понять ее можно.
В самый разгар его творческой деятельности скончалась детдомовская няня, крёстная мать Асклиада Кондратьева, которую он любил не меньше, чем родительницу. Родная матушка Клавдия Михайловна, освободившись из тюрьмы, дожила до 1978 года. Она ещё успела понянчить своего ленинградского внука. С невесткой, по отрывочным сведениям (а мы вынуждены именно такими пользоваться), не возникло, к сожалению, сердечных, близких отношений.
К тому времени позывы к писательству у Гаврилина начали исчезать, он полностью отдался музыкальной деятельности. Это не значит, что его композиторская судьба оказалась безоблачной.
Гаврилин прожил жизнь как-то стремительно, это видно даже по фотографиям. Стремительно он даже болел, стремительно совершенствовался в музыке, стремительно стал почти стариком...
Видимо, не случайно написал он в стихах: Давно мы уже не солдаты,
Давно уж не те, что когда-то...
Всё ближе последняя дата,
Когда постучится мадам.
"Ко мне?" — я спрошу.
"Да, я к вам.
Казармы мои опустели,
Веду пополненье войскам".
"По адресу ль ты, прилетела?
Смотри, я не стар, ещё в теле,
Как будто любим и при деле,
Мне даже медаль дать хотели.
Да я лъ тебе нужен в солдаты?"
Смерть просто ответит: "Да, ты".
("О музыке и не только", с. 143) После гениальной "Русской тетради", созданной в 1965 году, Гаврилин всё ещё не стыдился и не ленился работать в музучилище и лаборантом в фольклорном кабинете, хотя был уже принят в Союз композиторов... Первая его статья "Хоровая музыка ХХ-го столетия" опубликована в газете "Вечерний Ленинград". Когда-нибудь музыкальная общественность станет изучать каждую мысль Валерия Гаврилина, даже заведомо ошибочную. * * * 2 сентября 1989 года в одной из вологодских газет была напечатана статья Натальи Серовой, вологодской журналистки, "Чудо таланта неслучайно":
"Отмечено 50-летие композитора Валерия Гаврилина, нашего земляка.
В один из сумеречных, коротких зимних дней приехали мы с Татьяной Дмитриевной Томашевской в село Воздвиженье. Группа ленинградских кинематографистов вела подготовительные работы к большой ленте о композиторе Валерии Гаврилине, и ей, его первой учительнице музыки, было важно вновь увидеть места, где прошли трудные детские годы прославленного теперь воспитанника. Увидеть, чтобы заново пережить и прочувствовать многое из того, что сберегла память; вспомнить и поделиться с творческой группой, чтобы не упустили они важных, сущностных моментов.
Яркое пятно "жигулёнка" на иссиня-белом снегу привлекло внимание любопытных и словоохотливых сельчан. Стихийно образовавшийся кружок неторопливо расспрашивал о цели приезда, а мы, в свою очередь, старались
популярно объяснить её на случай, если имя это покажется им неизвестным. "Валера Гаврилин? Я же в школе с ним вместе учился", — пробасил стоявший за спинами женщин высокий мужчина с сеткой продуктов. И обрушился на нас поток стихийных и подробных воспоминаний. Кто-то вспомнил его маму, не жалевшую себя, работавшую много, на износ в то тяжёлое голодное время. Кто-то припоминал тихого, но очень "содержательного" (как они определили) мальчугана. "И кто бы знать мог, что композитор у нас вырастет!" В этих бесхитростных словах прозвучали гордость и восхищение.
Пришло на память вот это, дорогое для нас признание Гаврилина: "Вологда для меня не только место, где началась моя музыкальная жизнь. Но это то место, где я впервые познакомился очень широко с жизнью во всех её проявлениях. И когда я уже стал самостоятельно работать, стал искать, о чём писать, для кого писать, что меня по-настоящему волнует на самом деле, то оказалось, что это та жизнь, которая мне знакома с детства — Вологда и Вологодский край. Здесь жила и работала моя мать. Здесь мой дом, где я жил до того, как стал воспитанником детского дома. Здесь все дорогие мне люди. Отсюда ушёл на войну мой отец и погиб под Ленинградом. Здесь жили люди, которые первыми объяснили мне, наверное, не словами, а по-всякому, что такое красота, что такое доброта, что нужно ценить прежде всего в жизни, ценить в людях. Здесь я впервые услышал русскую народную музыку, услышал песий, обряды, увидел танцы, гулянья, увидел человеческое горе, страдания. Здесь я прожил всю войну. Видел, как приходили с войны или, наоборот, как не приходили с войны..."
Тихая прелесть наших северных мест дала силы одному из самых крупных и самобытных композиторов нового времени, имя которого уже стало гордостью отечественной музыки. Валерий Гаврилин многое успел, творчество его настолько многообразно, что у каждого, наверное, он свой. Любимы, узнаваемы и популярны его эстрадные песий. Не искушённый в музыке человек без труда вспомнит "Маму", "Два брата", "Черёмуху". Не покажутся ему чужеродными и серьёзные, крупные сочинения автора. И в "Русской тетради", и в вокальном цикле "Вечерок" порадует узнавание тех исконно народных интонаций, которыми они пропитаны.
Никогда не забудется щемящая печаль, бесхитростность, завораживающая открытость цикла "Военные письма". "— Дорогой, куда ты едешь? — Дорогая, па войну!" Слушаешь этот бытовой диалог и не понимаешь, как удаётся мастеру так просто и прямо передать всю трагедию военного времени.
Балет — искусство изысканное и любимое не многими. Но телевизионный балет "Анюта" по чеховской "Анне на шее" кажется невероятно далёким от привычного, условного, сказочного мира хореографии. Сопереживая судьбам героев Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, забываешь, что не слышишь' человеческой речи. Чудо музыки Гаврилина оживило мир вечных человеческих чувств, и оказалось, что "о любви, измене и страсти" можно сказать всё, не прибегая к слову. (...)". * * * В 1990 году у Валерия Александровича произошел второй инфаркт. К этой поре он почти совсем освободился от литературных помыслов, от стихотворных опытов, хотя талант музыкального критика совершенствовался. А совершенствоваться было чему! Вспомним хотя бы его достойный отзыв на книгу фольклориста Фёдора Руцова. Черновик этой гаврилинской статьи помещён в книге "О музыке и не только". Она (статья) полезна молодым: "Эта работа ("Интонационные связи") — центральная. Широкий охват, тщательное изучение материала, строго продуманные обобщения, лаконизм в изложении". И далее: "Особенно ценно исследование жизненных истоков и выразительного значения народно-песенной интонации и ладов, а также путей их развития. Работа имеет революционизирующее действие на всё славяноведение (как науку), а не только на фольклористику и вооружает подлинным методом исследования..."
Не менее интересен и биографический очерк о Чуйковском (1840—1893). (Не путать с Чайковским.)
Гаврилин изучал историю музыки всерьёз, и неизвестно, чего бы он ещё достиг в этом деле, проживи он дольше...
Гаврилинская музыка совершенствовалась, а сам он стремительно разрушался. Разные болезни уже поселились и укрепились в его организме.
По имеющимся фотографиям можно проследить за физическими изменениями в его облике, динамика этих изменений ещё заметнее в документальных съёмках Анатолия Викторовича Пантелеева.
Ко времени постановки "Анюты" всё чаще из разных книг выписывает Гаврилин, что говорили о здоровье и "тождестве человеческих (духовных и физических) законов" (стр. 329 книги): "Закон отталкивания — вражда. Всемирного тяготения — любовь". Далее из Апостола Павла: "...языком человеческим глаголю и ангельским, но если любви не имеют — ничего не имеют". И далее: "Томление, страдание, чувственность, похоть, сладострастие, вожделение, потаскушество, блядство, любовь. А что секс? Русский великий и могучий язык не создал такого понятия за всю историю, т. к. не считал нужным".
Около того времени зафиксирована и мысль о русском вальсе (стр. 331), вероятно, она относится к времени времени создания балета "Анюта".
Земная жизнь Гаврилина приближалась к завершению, а в Пермском Академическом театре им. Чайковского поставили его знаменитый балет по чеховскому рассказу "Анна на шее". Либретто было написано А. Белинским и В. Васильевым. Я ничего не имею против коллективного, парного создания либретто, но в 1990 году Гаврилин, с его талантом писателя, вполне бы мог и сам написать либретто. В то время он был ещё в силе, интеллект не покинул его. До 99-го года, года его смерти, было ещё далеко, он владел в совершенстве даже техникой стихосложения... и рука его тогда была ещё крепка... ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Увенчанный лаврами
Героями Русь ведь богата... Слова из песни о гибели "Стерегущего"
Всероссийская слава, скорее всего, была больше нужна близким Гаврилина, а не ему самому. Скромность Валерия Александровича была общеизвестна. Больше того, иногда он считал свою популярность преждевременной и не совсем заслуженной. Но успехи радовали его и вдохновляли, настраивали на последующую работу, будили фантазию.
Наконец-то более-менее устроились жилищные и денежные дела. Одновременно с этим состоялись необходимые для него знакомства. Правда, важные и нужные знакомства сопровождались совсем излишними и даже неприятными. Ко многим совсем не лежала слишком ранимая гаврилинская душа! Приходилось частенько и прятаться, и скрываться от назойливых поклонников и экзальтированных поклонниц. А как часто он просто краснел от излишнего, невпопад комплимента, от бестактной и грубой лести, а то и тонко запущенного издевательского намёка.
Как был прав Фёдор Шаляпин, когда говорил о русской любви, такой тиранической, такой нетерпимой! "Почему это, — возмущался великий певец, — злое издевательство сходит за ум, а великодушный энтузиазм за глупость?"
Да, действительно так и есть: "Живи не так, как хочется, а как моя любовь к тебе велит". Сколько их, зрителей, слушателей, например, в одном Октябрьском дворце. И каждый ждёт от "гения" именно того, что ему хочется...
Здоровье гения между тем становилось всё хуже... Валерий Александрович всё чаще прихварывал. 28 мая 1990 года он записал: Юрий Иванович.
21 час 30 мин. — 22 часа. 2 июня — день похорон, 14—15 часов. У меня внезапный приступ стенокардии и внезапное повышение давления. Видимо, душа (Селиверстова Ю. И. — В. Б.) мучительно и слёзно расстаётся с телом, тяжко прощается. Мне это передалось".
Второй инфаркт и произошёл в том 1990 году. Можно ли было предотвратить его? Жена Наталья Евгеньевна старалась, как могла. Но почему она пыталась ограничить общение Гаврилина по телефону с людьми, которые доставляли радость — с Чернушенко, Мининым? Некоторых людей Наталья Евгеньевна, очевидно, просто терпеть не могла, а Валерию Александровичу они были необходимы. И как исполнители, и как друзья, как собеседники. Он слишком тонко ощущал полную и неполную искренность сочувствующих его здоровью, его душевному состоянию. Фальшь, сквозившая в чьём-либо голосе, передавалась за тысячу вёрст, не говоря уж о своих, о питерских, голосах.
Надо было иметь шаляпинское здоровье, чтобы одолевать все невзгоды, выпавшие на долю В. А. Гаврилина. (Та же Наталья Евгеньевна и Томашевская обычно даже боятся говорить об обстоятельствах вступления Гаврилина в Союз композиторов). Слишком много потратил он физических и духовных сил на семью, на добывание хлеба насущного. (Иван Ильин, философ, называл этот хлеб насущным.) Успехи в творчестве пришли бы к Гаврилину ещё раньше, чем это произошло, если бы не болезни и не больницы, если бы не тяжкая семейная повинность "кормильца". Невольно задумаешься над словами Христа: "Враги человеку домашние его...".
Гаврилин во многом напрасно растрачивал свою драгоценную для России жизнь. Ему приходилось не только писать музыку для кино и спектаклей, совершенствовать собственную игру на рояле, заканчивать аспирантуру, но и сочинять обширные статьи для газет. То есть защищать свою честь и достоинство — свою и своего высокого дела.
Трудно и долго искал Гаврилин тот путь, который был для пего первоначально предназначен. "Скоморохи" с их непристойностями в адрес царицы и российского монарха, Григория Распутина и т. д. — это был не его путь. В те годы я, конечно, не осмелился бы открыто критиковать эту эстетику, но опасность злой политической сатиры чуял и кожей, и сердцем.
(Не зря же так не давалась Шаляпину "Блоха" Мусоргского! Эта блоха прыгала от великого певца долго и весьма далеко.) Сатира — вообще дело опасное, а для живописи и музыки очень опасное.
Подвиг, совершённый Гаврилиным после "Степана Разина" (по Шукшину), полностью реабилитировал Валерия Александровича и в моих глазах, и в глазах миллионов других слушателей, любителей гаврилинской музыки.
Гаврилин болезненно, всерьёз переживал неприятие его творчества со стороны профессоров академической школы, так прочно внедрённых в петербургскую интеллектуальную среду. Многие однокурсники ехидничали по поводу песенных, фольклорных пристрастий Гаврилина, и шутки сверстников повергали его иногда в полное отчаяние. Его душа была чутким инструментом, который отзывался на еле заметное прикосновение.
Мы не должны забывать свойств характера В. А. Гаврилина, о коих говорят все, кто его знал: доброту, вечную боязнь кого-то обидеть, нежелание ссориться. Хотя он, как и Николай Рубцов, мог постоять за себя, но скандалить не мог. Рубцов был твёрже и жёстче Гаврилина. (Думаю, что Рубцов по этой причине долго и не женился, а когда подготовился идти в загс с Дербиной, тут его и настигла смерть.)
Сам Гаврилин о Рубцове писал так: "Творчество Н. Рубцова я понял не сразу. Только года через два после его гибели. Я думаю, это оттого, что его духовный, душевный мир был гораздо богаче, ярче и сильнее, чем мой. С годами мой жизненный опыт привёл меня к Рубцову — и теперь в современной русской поэзии нет поэта более для меня дорогого, чем Рубцов.
Я учусь у него, многое перенимаю и верю во всё, что он написал, даже если сам я этого не испытал. Он стал для меня школой, одним из учебников духовного опыта. Теперь я очень страдаю от того, что не могу найти музыкального ключа к раскрытию тайн его поэзии в музыке. Дважды брался — и всё с очень и очень плохим результатом. Мечтаю написать истинно рубцовскую музыку — надежда на то, что однажды это у меня получится, помогает мне жить и трудиться и лучше, старательнее сочинять и всю остальную музыку". Я уже говорил, что тесное сотрудничество с "текстовиками" было для Гаврилина отнюдь не всегда удачным. Хоровые удачи, благодаря дирижёру Минину, были чаще. По-настоящему много сделано для Гаврилина, несомненно, Владиславом Черпушенко и певцами его капеллы. Что было бы, кто бы спас талант, если б не упомянутые люди? ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Последняя
Дождь полуночный, дождь колыбельный.
Оттого-то дожди хороши,
Что на палубе нет корабельной
Ни одной подгулявшей души.
Не заводят "Амурские волны",
И забортные еле слышны.
Захотелось не хлеба, а воли,
Одиночества и тишины.
Разве радости этой не стою?
И попробуй-ка тут не уехать
Между небом плутать и землёю,
Меж судьбой и желаньем плутать.
Сколько мной не доделано дела,
Недовитых оставлено гнезд!
Но не вся ещё жизнь пролетела
И не всё же в ней наперехлест!
И в какой-то момент запредельный
Вдруг сольются тоска и.покой,
Как сливается дождь колыбельный
С тёмной насторожённой рекой. Сергей Чухин
Что мы сможем без гениев, без конкретных живых примеров? Вот хотя бы без того же Шаляпина, страстно мечтавшего иметь свой театр. "Мечту мою я оставил в России разбитой!" — так говорил он и так закончил он книгу "Повести о жизни".
Думаю, что В. А. Гаврилин мечтал о своём театре не меньше Фёдора Ивановича, однако он лишь слегка приблизился к этой мечте... Ладно, хоть заметил эту мечту ещё до первого гаврилинского инфаркта Владислав Александрович Чернушенко — главный дирижер Петербургской хоровой капеллы.
Ах, много бы я дал, чтоб узнать, слышал ли В. А. Гаврилин чудесный хор валаамских монахов! Если слышал, то ему, может, и не стоило мечтать о своём театре...
Я включаю песню о "Стерегущем" в исполнении хора Петербургского подворья Валаамского монастыря... Включаю я её в память о Гаврилине и Рубцове. И Коля, и Валерий, думаю, были бы не против послушать эту музыку. Но ведь они же слышат! "Если я человек истинно верующий, я не должен в этом сомневаться!
Одного корня, народного, — с такими произведениями — и музыка В. А. Гаврилина. И снова хочется включить проигрыватель или же ежедневно ходить на любые концерты с гаврилинской музыкой!
"Вот что ты наделал, Валерка!" — сказал бы отец Александр Павлович, если б мог встать из братской могилы.
Но людям вставать из могил ещё не время, не пришли времена и сроки, хоть, может, они близки.
Вот и Валерий Александрович улёгся в могилу, вырытую в той же, что и у отца, земле.
Он умер 28 января 1999 года. Только ведь не он умер, Бессмертна душа человеческая, бессмертна совесть, бессмертна и музыка Гаврилина, прожившего свою жизнь, совести и души не теряя, прошедшего свой путь след в след за Георгием Свиридовым. Вместо эпилога Валерий Александрович писал:
"Я человек очень простого склада. Тогда ко мне приближаются люди примитивные, душевные, иногда душевно тонкие и чистые, по которым непонятен я со своей работой и своими обоснованиями целей работы.
Я человек и очень сложного склада — тогда ко мне подходят люди с пораненным самолюбием, уязвлённые, очень развитые интеллектуально, но я для них как сливная чашка, они во мне полощутся, подмываются, а в общем дают только душевную смуту.
Я мечусь меж первых и вторых и не могу найти преданного человека, который был бы мне настоящим другом...
Но Боже мой, как много оказывается в жизни чужого для меня! Я потерялся. Я вижу сильных и талантливых работников, которые живут без сердечного тепла и на этой основе общаются друг с другом. Откуда они берут жизненные идеи? Как они чувствуют сердце общества? Ведь многое им удаётся. Иногда мне кажется, что я старомодный тупица, безнадёжно отставший от всего современного... Другие забывают меня, потому что больше любят женщин, другие, потому что больше любят шапочное знакомство с сильными мира.
А как умеют оправдывать всё это или не замечать сути своих поступков, какими светскими людьми могут быть, с какой милой непосредственностью презирать, плевать в лицо, как очаровательно умеют менять человеческий облик, быть наиобходительнейшими свиньями. Жуть какая вещь — конъюнктура.
Музыка, сердце моё, жизнь моя, не учи людей ЖИТЬ, учи любить, страдать...". (Из книги "О музыке и не только", стр.28—31.) |