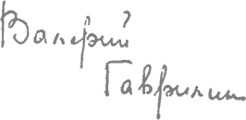Золотов А.
Из Вологды – в мир. Маленький триптих в честь и память Валерия Гаврилина
/ А. Золотов // «Этот удивительный Гаврилин…» : [сборник]. – СПб., 2008. – С. 292–305.
|
Золотов А.
Из Вологды – в мир. Маленький триптих в честь и память Валерия Гаврилина
/ А. Золотов // «Этот удивительный Гаврилин…» : [сборник]. – СПб., 2008. – С. 292–305.
Эти из глубины души слова ложатся на
бумагу в воздухе над Европой, в самолете Москва – Дюссельдорф.
О бесценном Валерии – уникальном Гаврилине из Вологды, из России, из
пламенеющего страстями и раздорами Мирожительства – в воздухе, разве что
не в космосе, словно к нему лечу... Дивно, таинственно. При всем том –
просто и так естественно думать о заоблачном друге в облаках: словно он
где-то рядом, только не ведаешь, где это непостижимое «рядом». Удаление,
приближение, вираж вверх, вираж вниз. Земля видна, ощутима взором – и
недостижима... Вот и вся Музыка – в поэзии недостижимой реальности,
укрываемой облаками природной фантазии и неотвержимой судьбы, указующей
путь в историю народа. Своего народа, а может быть, и других – близких
не то что по духу и складу, но мгновенному божественному сопряжению
оставшихся сил и надежд на Веру, спасающую, возносящую и связующую – на
земле с каждым, на небесах с избранными душою просветленной.
Для Валерия Гаврилина одним из его небожителей, избранных его душою
просветленной, стал Генрих Гейне из Дюссельдорфа на Рейне: первое
сочинение (для любимой вологодской учительницы Татьяны Дмитриевны
Томашевской) – «Красавица-рыбачка» – на стихи Гейне, вокальный цикл
«Немецкая тетрадь» (второй курс Ленинградской консерватории) – на стихи
Гейне. И еще одна «Немецкая тетрадь», и еще одна. Звук – поющее слово,
звук – чувствующее состояние, звук – страдание о своем в видениях о
далекой жизни, идеально загадочной, и в этой своей загадочности –
очевидной, в ясности представшей очарованной душе одинокого творца в
далекой неохватной России. Я все «тянул» с воспоминаниями о Валерии
Александровиче. Причин множество. Но главная – во мне самом: я не
тороплюсь расстаться с ним живым. Он мне необходим живой.
«Немецкая тетрадь» (первая, вторая, третья), «Русская тетрадь»,
«Вечерок», «Военные письма», немеркнущие «Перезвоны», оказавшаяся такою
«чеховской» музыка, влившаяся в балет «Анюта», фортепианная музыка и
музыка для оркестра, пронизывающие песни – во всем у Гаврилина «дух
русской неподдельности» и «широта одухотворения» (образы Бориса
Пастернака). Ему было дано редкое для художника счастье: он познал
несравненную радость «родным войти в родной язык» (мечтательная строка
из того же поэта).
Наше родство с Гаврилиным – через язык, первозданный мелодический дар и
художественный характер, открывающие в бесконечно притягательной
личности Автора черты обезоруживающей гениальности и восторженно
узнаваемую небывалость.
Вижу его одиноким замком на высоких, лесистых, «горных» берегах Рейна.
Многое слышали на своем веку эти рейнские замки, исторические
созерцатели новых и новейших людских деяний и откровений, затаившие
величавую гордость в своем скромном сердце.
Валерий Гаврилин – тоже Созерцатель; жизнь не «отразилась», но
«выразилась» в глазах и мудрой душе его музыки.
В эти глаза предстоит вглядываться новым русским поколениям. К мудрой
душе гаврилинской музыки предстоит им чутко прислушиваться в желании
оберечь свою душу в испытаниях времени для лучших времен.
Блистательной глубины музыкальный писатель, композитор Валерий Гаврилин,
характеризуя музыку Георгия Свиридова, рисовал в своем воображении образ
некоей «звучащей антенны, соединяющей мир земных людей с миром
отлетевших энергий, миром нашей первопамяти, миром нашего будущего –
вспоминаем ли прошлое, думаем ли о будущем, мы смотрим в небо...».
С немецких берегов Рейна смотрят в небо и в облаках, кажется, достают до
него две стройные островерхие вершины великого Кельнского собора.
С французских берегов Рейна глядится в небо единственная вершина –
стрела великого Страсбургского собора. Если судить об архитектурном
замысле по фасаду храма, должно бы и здесь быть двум возносящимся к небу
готическим «стрелам». Но непарным вышел Страсбургский собор, уникальным.
Так и стоит веками, притягивая мировые взоры.
Не так ли и наш незабываемый друг, русский композитор Валерий
Александрович Гаврилин! Один такой стоит на Руси. Не сказавший всех
своих Слов, сам себя не «достроивший», но отчетливо слышный в космосе
русской жизни, соединяющий земных людей с миром отлетевших энергий.
Гаврилин из Вологды, из России, дивный и таинственный русский художник
из числа людей, наделенных (говоря его же словами) «особо острым
чувством ответственности за жизнь и перед жизнью».
II
Уже вышла книга воспоминаний, с тактом и нежностью подготовленная
трудами Наталии Евгеньевны Гаврилиной. Я в эту книгу не поспел, но,
читая ее, прибавлял к «своему» Гаврилину новые черточки узнавания.
Уже готовится второе, расширенное издание воспоминаний, и я снова не
знаю, успею ли и в эту новую книгу с мыслями, чувствами – живыми
картинами из своей жизни, в которую однажды и навсегда вошел Валерий
Гаврилин – с его музыкой и личным существованием, источающим
подлинность.
Когда и как мы познакомились? Теперь кажется, что всегда знали друг
друга. И в этом – правда. Гаврилин всегда обладал способностью войти в
ваше пространство, не растворяясь в нем, не вытесняя вас, едва ли не с
первых звуков общения Гаврилин дарил вам новые качества самоощущения. Вы
были ему интересны. Он многое о вас знал. Он придавал вам значение и при
этом никогда и никак не «использовал» вас в своих целях, пусть и чисто
творческих. Его всерьез занимали, более того, волновали ваши дела и
состояние духа, но также и состояние умов в нашей общей, хотя не
единственной, не целостной, художественной среде.
Интерес к самому себе с чьей-либо стороны, включая друзей, или, что
может быть еще важнее, людей, которым он доверял, доверялся, мог ожидать
от них правдивого слова, – интерес к самому себе Валерий воспринимал как
подарок если не судьбы, то неких добрых начал жизни, в которые верил,
восчувствовал их и которые он сам каждодневно и ежечасно питал своею
благорасположенностью к порою самым неожиданным проявлениям человеческой
воли и характера.
Сначала я узнал его музыку. Вокальный цикл «Русская тетрадь» произвел
ошеломляющее действие.
К той минуте я был уже очень близок, творчески и человечески, с Георгием
Васильевичем Свиридовым, находился под сильнейшим влиянием этой могучей
личности, страстной натуры, создателя великой музыки (так уверенно
полагал тогда, так чувствую и сейчас).
Гаврилин же явился для меня совершенно неожиданным явлением – отнюдь не
прямым продолжением Свиридова в молодой генерации русских композиторов.
Я ощутил это с отчетливой несомненностью и сразу. Проблема «Гаврилин –
Свиридов» интересная и серьезная. Я мог бы с готовностью рассуждать об
этом специально. Здесь же могу свидетельствовать, прежде всего, об
одном: оба композитора действительно любили друг друга и ценили
высочайше.
Истинность Гаврилина остро ощутил и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Оба
гиганта, оба великих русских композитора – Шостакович и Свиридов, –
каждому из которых было органически присуще зоркое чутье на талант,
быстро и не сговариваясь пришли к сознанию, что русская музыка XX
столетия обрела в Гаврилине «чудный дар», и нужна ему некая охранная
грамота, потому как вокруг иные дарования – не большие или меньшие, но
иные, на другом музыкально-образном языке высказывающиеся – могут и не
принять в свой профессиональный круг, и нужна поддержка – знак признания
таланта и доверия к его будущему.
Так Валерий Александрович Гаврилин стал лауреатом Государственной премии
РСФСР имени Михаила Ивановича Глинки за вокальный цикл «Русская
тетрадь». Его радетелями были Свиридов и Шостакович – члены Комитета по
премиям России.
Впоследствии творчество Валерия Александровича не раз было отмечено
высокими премиями и званиями, но эта первая, глинкинская, награда была
во всех отношениях особенная – она оградила композитора от множества
всплесков непонимания и ревностного неприятия современной композитору
художественной среды.
В слушательской среде, «музыкальном народе», музыку Гаврилина восприняли
не как простую и доступную, но как «свою», будто в их среде, в каждой
отдельной душе, выросшую или возникшую: сама собой выросшая, сама собой
возникшая музыка. Будто без автора она.
Но в среде «элитарной» (условно назовем ее элитарной, хотя образ не так
точен), не только сугубо музыкантской, но и осмысляющей искусство,
возникали неожиданные проблемы с Гаврилиным, включая людей весьма
замечательных, архиобразованных, к музыке расположенных и хорошо в ней
ориентирующихся. Так случилось, например, с Мариэттой Сергеевной
Шагинян, замечательной писательницей, горячей почитательницей
Рахманинова и Шостаковича, с которыми она состояла в переписке. В одном
из писем к Шостаковичу Шагинян не скрыла свой критицизм в отношении
«Русской тетради» Гаврилина (не далась ей эта музыка), но получила в
ответ мнение Шостаковича о Гаврилине – проницательно возвышенное.
Свиридов же высказывался о творчестве Гаврилина многократно и
развернуто: печатно; в наших разговорах, частых и искренних; перед
кинокамерой для огромной телевизионной аудитории.
Впервые это произошло в задуманном мною телевизионном фильме «Русская
тетрадь» (пела Людмила Белобрагина), снимавшемся в студии фильмов об
искусстве творческого объединения «Экран» Гостелерадио СССР (мне
довелось создавать и возглавлять ее в 1973-1983 годах).
Свиридов живо откликнулся и на мое последующее приглашение участвовать в
телевизионном документальном обзорном фильме о творчестве Гаврилина.
Фильм снимался в Ленинграде и Вологде. Георгий Васильевич же произносил
свое слово о Гаврилине в Москве. И в первый (для «Русской тетради»), и
во второй раз он тщательно готовился к съемкам, сильно волновался и,
чтобы придать дополнительное, как ему казалось, значение герою фильмов,
то есть Гаврилину, он решил приехать на съемку в студию, а не сниматься
дома (не хотел выглядеть художником-«барином», дающим интервью на ходу).
В Вологде, в дни съемок фильма о нем, Валерий Александрович казался мне
чуть иным, нежели в Москве и Ленинграде, – может быть, особенно
сердечным, может быть, особенно растревоженным. Мы много говорили о его
первой учительнице музыки Татьяне Дмитриевне Томашевской, долго и много
гуляли по городу.
К вечеру Валерий повел меня к реке, рассказывал о своих местах в
Вологде, говорил о маме, о том, как после возвращения из заключения она
никак не могла поверить в композиторскую судьбу сына, уже состоявшуюся.
В общении нашем не было дистанций. Думаю, это происходило из-за совсем
малой разницы в возрасте, но еще и оттого, что Гаврилин умел разглядеть
в собеседнике что-то для него самого важное и близкое (если это
«близкое» случалось) и говорил, как с самим собой: очень серьезно, но
без назидательности, полемично, но без пыла, размышляя в уверенности.
Однако уверенность эта шла не оттого, что непременно прав, а оттого, что
мыслит и чувствует в поле истинности, где существенной ошибки быть не
может, но тонкость в ощущении и точность в словах необходимы и решают
все.
Валерий Александрович ставил собеседника выше себя самого, и оттого его
природная изначальная скромность обретала черты органического
объективизма. В такие минуты он и сам, казалось, отстранялся от
всяческих личных приязней и неприязней и, как что-то само собою
разумеющееся, высказывал суждения в ключе истины.
С ним бывало и весело, но чаще драматизм жизни окутывал все его существо
и существование. Вряд ли он сам сознавал, какое мощное трагическое поле
он нес в себе. Думаю, будет справедливо, говоря о Гаврилине,
воспользоваться формулой Асафьева об «изживании жизни» художником
определенного склада (Асафьев относил это к Чайковскому).
Для меня Валерий всегда оставался мудрецом, в некотором роде «Оптинским
старцем». Начитанность его была исключительной, а «применение» обширных
познаний – изумительно органично, неожиданно и подавляюще.
В моем фильме «Размышления о Мравинском» среди блистательных
художественных умов, высказывавшихся об искусстве великого русского
дирижера (Галина Уланова, Евсей Моисеенко, Олег Борисов, Юрий
Григорович, Лорин Маазель, Клаудио Аббадо), гаврилинское слово звучит
наиболее обобщающе и необычайно емко. Он вдруг вспоминает запись Льва
Толстого из дневника последних лет: «Вышел, посмотрел на закат и понял,
что жизнь человеческая – это не шутка!»
Ценность человеческой жизни, всю ее «нешуточность», как и Мравинский, о
котором он размышлял, Гаврилин сознавал очень лично и со всею
неизбежностью, существенной ошибки быть не может, но тонкость в ощущении
и точность в словах необходимы и решают все.
Кажется, его мало заботил его собственный образ в глазах других людей.
Он был свободен и от размышлений о своем месте в искусстве. Никогда не
слышал от него – при наших встречах, в наших разговорах (не столь
редких, если учесть, что жили в разных городах) – целенаправленной
критики в адрес коллег по композиторскому цеху.
Он очень много работал и к своему труду испытывал самое серьезное
уважение – безотносительно к результату и степени успеха того или иного
сочинения.
Гаврилин был одним из самых благодарных творцов, с какими мне довелось
общаться. Он жил с неизбывным чувством благодарности к семье, ставшей
для композитора благотворной и целостной средой обитания; исполнителям
его музыки, независимо от их ранга и статуса; коллегам в композиторском
и музыковедческом мире; писателям, которых он глубоко чтил за их талант
и новое слово в современном художественном потоке (Виктор Астафьев,
Николай Рубцов, Василий Шукшин, Валентин Распутин), философам (философия
общего дела Н. Ф. Федорова, тома по античной эстетике А. Ф. Лосева
неизменно присутствовали в рабочей комнате Гаврилина).
Его благодарность высказывалась негромко, но ощущалась как некая высокая
ответственность перед теми, кого он любил и ценил.
Его кабинет на улице Пестеля, где я нередко бывал, приезжая в Ленинград,
производил впечатление хотя и просторной, но все-таки монастырской
кельи. Главный «человек» здесь – рояль (Гаврилин время от времени
передвигал его в поисках «нужной» точки звучания или созвучия их душ –
композитора и рояля). На стене – фотографии близких ему людей, часто с
автографами: Астафьев, Свиридов, Зара Долуханова, Михаил Ульянов...
(Несколько раз Валерий просил прислать и мою фотографию, но я не
поторопился, полагал, что честь велика.) В комнате много книг, у окна –
старинный письменный стол, низкое кресло для отдыха и полусумрак в
солнечный день.
Обедали на кухне. Наталия Евгеньевна кормила всегда обильно и очень
вкусно. Украшением застольной беседы была ее матушка. Сын Андрей, в ту
пору студент, бывал за столом нечасто.
Жизнь дома была сосредоточена вокруг Валерия, но никто не делал из него
идола, и, прежде всего, он сам из себя ничего и никого не делал.
Здоровье Валерия Александровича всегда вызывало опасение, и кто знает,
каких его сочинений мы бы недосчитались, если бы не тот уклад домашней
жизни, который оба они, Валерий Александрович и Наталия Евгеньевна, для
себя определили с самого начала. Любовь и забота, понимание и терпение
были той правдой, из которой рождалось каждодневное вдохновение
гаврилинской жизни.
В Москве Гаврилин бывал редко. В основном на исполнении своих сочинений.
Помню, как волновался он на премьере «Скоморохов» в Большом зале
консерватории, и уж совсем не забыть Гаврилина на премьере «Перезвонов»
в том же Большом зале. То был триумф! Сохранилась фотография: в
закулисье вокруг Гаврилина – Георгий Свиридов, Владимир Рубин, Отар
Тактакишвили, Сергей Бондарчук. Мне она дорога не только тем, что
напоминает и о моем присутствии в этом круге достойных, но тем, что
хранит радость и смущение композитора в исторический миг.
Вскоре после премьеры «Перезвонов» телевидение показало полную запись
концерта с моими комментариями к каждой части, а еще через некоторое
время я получил в подарок от Гаврилина только что изданную партитуру
хоровой симфонии-действа «По прочтении Василия Шукшина», как определил
«Перезвоны» сам автор, с очень доброй надписью. Смысл ее сводился к
тому, что Гаврилин считает успех «Перезвонов» нашим общим делом. В этом
весь Гаврилин.
Слегка иронизировавший над понятием «мировое значение», он, сам того не
сознавая, обрел свое значение для мира русской души, для мировой музыки,
для мира, которому Музыка способна напоминать о ценностях
жизнеустройства человека на Земле и бесконечных утратах в самой системе
этих ценностей.
Прощание с Валерием Гаврилиным всего через год после кончины Свиридова
несло в себе и неутешную боль, и свет привнесенной им в мир беззащитной
любви, и тайну русской гениальности...
Есть у Гаврилина балет «Дом у дороги», по Твардовскому. В этом балете
есть вальс. «Вальс-прощание» из времен Великой Отечественной войны.
Актер Олег Меньшиков сделал этот вальс лейтмотивом своего спектакля
«Горе от ума». И оказалось, что Гаврилин, вдохновлявшийся Твардовским,
созвучен Грибоедову. Так все совпало в пространстве русского чувства.
Выходит, что есть в музыке Гаврилина, в его неповторимой личности нечто
такое, что соотносится с самым сокровенным в отечественном искусстве и в
русской душе во все времена. И здесь поистине «кончается искусство».
Почва и судьба дышат в музыке Гаврилина, и, значит, жив он сам.
Воспоминания о Гаврилине длят наше с ним живое общение, им нет конца.
III
Русские актеры Счастливцев и Несчастливцев, вышедшие из «Леса»
Александра Николаевича Островского на простор русской жизни и
запечатлевшиеся в символическом русском художественном сознании, шли
себе, не ведая радости негаданной встречи, одним путем, но, как
известно, в противоположных направлениях: «Из Вологды в Керчь» и «Из
Керчи в Вологду».
Счастье и Несчастье непременно проникают друг друга, но сознают свою
нераздельность лишь в тот миг, когда узнают себя, заглянув в глаза
случайно встреченного, близкой души, человека, уже прошедшего ту часть
пути, что и тебе предстоит пройти, да ты еще не ведаешь, что тебя на том
остатном пути ожидает, к чему и с чем придешь.
В судьбе русского художника Счастье и Несчастье нередко торят одну
тропу, один путь по России и миру к своему Дому. Дому, где есть и будет
жизненное пространство для памяти о тебе.
В судьбе вологодского мальчика Валерия Гаврилина, призванного Природой и
Господом одарить людей их собственной, из сердца звучащей музыкой,
Счастье с Несчастьем проторили путь в историческое пространство культуры
небывалому русскому художнику, несшему в своей уникальной личности все
знаки и коды гениальности и при этом запечатлевшему в своем искусстве
необычайно новую жизнь души русского человека нынешнего времени – жизнь
души неисчезнувшей.
В Вологде, «в своем народе», впервые открылся людям музыкальный дар
Гаврилина. В Вологде было разбужено, взволновано и отогрето его великое
сердце ребенка и художника. В Вологде он ступил на путь
профессионального служения Музыке.
Его недолгий жизненный путь – неполных 60 лет – пролег через сознание
всей России, через признание ее великих творцов, выдающихся артистов,
через судьбы его современников разных возрастов, судеб, характеров,
разных, но подлинных жизненных и художественных устремлений.
Его необычная творческая судьба оказалась неразрывно связанной с
Ленинградом – Петербургом, как и судьба многих незабываемых русских
национальных гениев.
На улице Пестеля в Петербурге, где долгое время жил Гаврилин, теперь
мемориальная доска с его именем. На могиле Гаврилина на «Литераторских
мостках» знаменитого петербургского Волкова кладбища возносящийся к небу
– простой легкий деревянный крест. Здесь покоятся рядом, слившись в
нашем живом историческом сознании, Александр Блок, Тургенев, великий
скульптор Аникушин и еще многие из самых светлых имен отечественной
культуры далекого и совсем недавнего времени. Композитор Валерий
Гаврилин и среди них особенный, отдельный, со своею неповторимо
совершенной, будто вырвавшейся за пределы искусства, Песней, необычайной
речью, тайной ранящего сердце художественного высказывания.
Музыка Гаврилина несет в себе великую очистительную силу. Образ
Гаврилина-художника дарит людям надежду на то, что и впредь в России
будут приходить в искусство художники, любящие свой народ, неотделимые
от него душою, умом и сердцем, обязанные ему своим талантом.
«Мир буквально насыщен музыкальным смыслом, – говорил Валерий, – надо
лишь расслышать его...»
Гаврилин был одним из немногих, кому это удавалось.
Гаврилин подолгу молчал. Как бы пел «для себя». И надо было надеяться и
просто терпеливо ждать того момента, когда это «пение для себя» наконец
выльется в новое творение.
Но пока был жив Гаврилин, мы знали, на что надеемся, чего ожидаем. Мы
знали, что ожидаем нового чуда.
И теперь мы ожидаем нового чуда. Им стала и становится всякий раз Музыка
Гаврилина, отделившаяся от Автора и постоянно вызывающая к жизни его
Образ.
Удивительно, что при всей яркой индивидуальности своего дара Гаврилин
будто всем своим творчеством стремился к тому, чтобы стать анонимным
автором. Жизнь втолкнула его в художественную среду, Гаврилин вошел в
нее, провел свои неполные 60 лет и застенчиво вышел. Но след остался
глубокий.
Как это у Ивана Алексеевича Бунина:
Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты – раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель –
Певучий звон... Всё – только мысль и звуки!
То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.
Гаврилинская река в русской музыке не затеряется в океане художественных
стихий нынешнего и, даст Бог, последующего времени. Текущая из Вологды в
вечность, гаврилинская река несет к нам свои чистые воды и уносит наше
восхищенное сознание к новым берегам правды и надежды.
Август 2005 г., Москва
|