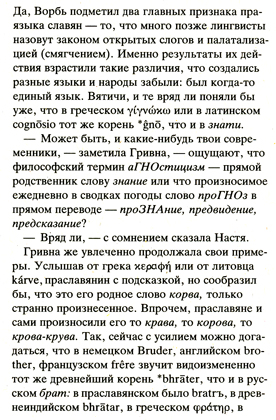
, в латинском frater. Различия в произношении сначала затрудняют узнавание, а затем, за столетия, прекращают его (об этом Настя уже знала).
Древнюю звуковую первооснову, изменившуюся до неузнаваемости, впоследствии могут обнаружить, восстановить лишь филологи, и то не все. Именно так была изучена судьба древнейших сочетаний ор, ол, ер, ел между согласными, например в борда (немецкое Bart), берг (немецкое Berg), горд (готское garda), коле (готское Kals), мелко (немецкое Milch) и подобных. Развитие тут было системным и очень последовательным. Южные славяне удлинили гласный и переставили его: книжные брада, брег, град, клас, млеко, чешские brada, breh, hrada, klas, mleko, так же у болгар, сербов. Восточные славяне развили второй гласный, так называемое полногласие: борода, берег, город, колос, молоко. Западные славяне лишь переставили гласный: польские brzeg, grod, zloto, klos, mleko. Конечно, было и немало непоследовательностей, даже случайностей. Скажем, сочетания такого типа с глухим гласным не знали «второго полногласия»: кръвь, кръстъ звучат как кровь, крест при сербских крв, крет; впрочем, в диалектах можно услышать молонья вместо молния, а в литературном языке мы говорим веревка (производя слово как бы от вервь, а не от връвъ).
В польском языке строго в согласии с общим законом русским группам оро, оло соответствуют rо, 1о, однако образование слога rо (в современном произношении ру, о чем свидетельствует черточка в орфограмме) произошло только в существительных мужского рода: *gordъ – grodъ – grod(grud); mroz (mruz) – «мороз»; wrog – «ворог, враг»; chtod – «холод, хлад» ит. д. В существительных же женского рода этого процесса не было, отчего русскому корова соответствует krowa, русскому голова – gtowa. Впрочем, в родительном падеже и тут появляется у: krow, glow, как и в некоторых однокоренных образованиях вроде glowka. Всему этому были, конечно, свои причины.
– Так это же всё мы уже проходили! – воскликнула Настя. – Когда мою фамилию разбирали – ворбь-врабь-воробь-вроб... то есть вру-белъ! Примеров тут навалом: прах-порох, крава-корова, злато-золото, вран-ворон, мраз-мороз. И ясное дело, никто не подозревает, что все это из древних порх, корва, золто... Всем понятно!
Гривна даже смутилась от такой решительной трактовки лингвистических проблем. Охлаждая Настин пыл, она взяла более спокойный тон. В целом, уточнила она, Ворбь и его сородичи, придя в бассейн Оки, начисто забыли о своей принадлежности к индоевропейцам. Вот о родстве с другими славянами язык действительно напоминал ежеминутно и остро. За немногими исключениями славяне к тому же и селились друг возле друга, без интервалов, будто заботясь о непрерывности, целостности своей Славии.
Между отдельными языками создавались переходные говоры – немаловажное препятствие для обрыва связей и сильное облегчение языкового взаимодействия, по крайней мере постоянное наглядное напоминание о родстве с соседями.
Праславянский язык отличался, как мы видим, удивительно сильными законами, действовавшими загадочно долго у всех потомков и роднившими их. Он был уже мало похож на индоевропейского прародителя и других его наследников. В нем действовали свои грамматические категории, образовался самобытный лексикон. Разные результаты общих процессов рано обозначили раздельность трех ветвей славянства. В то же время славяне остаются, видимо, куда ближе по языку, чем, скажем, англичане, немцы и другие потомки племен, говоривших на прагерманском языке, тоже вышедшем из индоевропейских общих недр. Славянские языки – поразительный пример тождества: сколько древних слов имеют в них звуковое подобие, одинаковый даже звуковой состав и схожую предметно-смысловую соотнесенность!
Так, с учетом судьбы сочетания ор между согласными и естественной логической связи представлений о сыпучих телах, древнее порх живет в русском порох, украинском порох (пыль и порошок), белорусском порах (порох; а – из-за отражаемого в орфографии аканья), болгарском прах (порошок, пыль, прах), сербском прах (пыль и порох), польском proch (порох, пыль, прах) и т. д. В книжном языке слово звучало как прахъ, откуда и было заимствовано русским, так что в современном употреблении порох – исконное слово, но закрепленное лишь за взрывчатым порошком, прах – заимствование (хотя оба восходят к одному и тому же праславянскому), причем уменьшительное от первого приобрело значение более общее, чем производящее.

дился вытаптыванием зерна на току с помощью рогатого скота).
Настя медленно соображала под наплывом примеров. На ум приходили самые неожиданные сопоставления. Ковбой, скажем, это же «коровий мальчик», и главное – однокоренные тут слова!
Гривна же тем временем рассказывала о том, что в праславянском языке выстроилось противопоставление, кроме полных и глухих, передних и задних гласных. Велярное произношение, т. е. сдвинутое к мягкому нёбу в ротовой полости, стало четко отличаться от палатального, суть которого в том, что язык стремится приблизиться к твердому нёбу, будто хочет произнести й, йот. Последствия этого очень серьезны: изменению подверглась вся доставшаяся славянам система согласных.
— Закон палатализации! – знающе уточнила Настя и сразу же задалась вопросом: – А чем вызвана эта пассивность, распластанность языка, которую поколения передали и нам и которой почти не знают другие народы?
— Опять скажу: кто знает! Какими-то вкусами, манерой жизни и говорения... Важно, что сформировалась в языке некая внутренняя тенденция. Она-то и стала объективным двигателем, упорядочила гласные по двум основаниям, упростила их и, напротив, чрезвычайно усложнила систему согласных. Здесь ученые отмечают забавную закономерность: если проследить фонетику языков с Запада на Восток, то заметно движение от гласных к согласным. В западных языках система первых сложнее и они играют основную смыслоразличительную роль; в восточных, напротив, гласные просты (в арабской письменности их даже обозначают очень условно и непоследовательно), но согласные берут на себя главную роль. Но это так, к слову.
Для русских важно, что на месте индоевропейской основы у славян возникло многоэтажное и, надо признаться, эклектичное здание. Звук л, например, предстает в трех лицах: твердым (перед гласными непереднего ряда; произносится поднятием спинки языка к мягкому нёбу с широкими боковыми проходами, похоже даже на неслоговое у – делал, делау), полумягким (перед гласными переднего ряда; образуется в области твердого нёба), мягким (возник в сочетании с и и ь; произносится округлением языка, образующего узкие боковые проходы). Впоследствии на месте мягких и полумягких произойдет полное смягчение, отчего из трех л получится два: поле, лисица, но лысина (так же и у поляков: pole, lisica, но lysina). У других славян да и у всех индоевропейцев имеется лишь один звук, чаще всего полумягкий «среднеевропейский л».
— А у англичан твердый, – со знанием дела возразила Настя.
— Да, твердый, но не такой, как русский, а альвеолярный. Нам интересно, что у русских согласные сложнее, многообразнее...
— Это точно, – съехидничала девочка. – Англичанину освоить наши л невозможно. И немец ни в жисть не произнесет наше твердое л! Впрочем, и нам не намного легче научиться их звуки произносить!
— У славян появился еще вставной л из краткого и после губных согласных. От индоевропейского звукоподражания *spieu (нынешнее тьфу! – сравни латинское spuo, литовское spiauju) они произвели пльвати (сравни чешское plvati, польское plewad). Но разве догадаешься сейчас, что английское to spit и русское плевать однокоренные?! Из древнего земьа получилась земля, в котором л утратили многие славяне (чешское zemê, польское ziemia); да и у русских – оземь, наземь, земной.
— Но есть и земляной, – никак не унималась спорщица. – И что бы ты ни говорила, земля красивее, звучнее, чем земя...
— Необъяснимая прелесть несовершенства! Совершенство прекрасно .тогда, когда оно несовершенно. У русских почти для всех звуков создались парные мягкие: б – бь, п – пь... Но нет пар у ж, ц, ш и у ч, щ. Ты, наверное, помнишь, что смягчать звуки русские научились отнюдь не сразу: к – кь, г – гь возникли поздно, а до того, оказавшись перед смягчающим гласным, они меняли свое качество: плакати, плачь; рука, руце...
– Ясное дело, помню! – чуть было не обиделась наша героиня. – Еще в III веке, общаясь с готами, славяне преобразовали их слова kaisar, kiriko в цесарь, цьркы (церковь). Правда, первое слово они потом второй раз заимствовали, уже в форме кесарь.

С долготой и краткостью гласных связывается и тип интонации. Место ударения свободно, а впоследствии многие славяне (увы, не русские) его закрепили за определенным слогом. Например, поляки за предпоследним, чехи за первым. У чехов, кстати, безударные слоги могут быть долгими, отчего русским кажется, что чехи делают два ударения в одном слове, что они вообще распевают речь. Сербы, хорваты, словенцы сохраняют в какой-то мере музыкальное ударение, у других оно заменилось экспираторным, динамическим, суть которого в изменении силы воздушной струи при произнесении. Следы этого тоже можно обнаружить в типах подвижного русского ударения.
Ритм речи в русском языке создается силовым

Внутри каждого слова есть орешек, который не всегда раскусишь. Разгадками занимаются ученые-этимологи. Они, например, показывают, что корень зъд означал глину и что к нему восходят сегодняшние русские слова здание, зодчий, создавать. Из одного корня возникли существительное квас и прилагательное кислый. Почитай этимологический словарь, и перед тобой откроется таинственный, увлекательный мир, отражающий мысли древних, их восприятия. Тут и природа, история народа: отразившись в душе человека, всё выражается в слове, в движении его смысла. Запечатленное в слове становится бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей мысли, опыта, чувства, знания. Хотя попробуй объясни, почему от петь русским пришло в голову произвести название петух, белорусам – певень, болгарам – петел! Украинцам же «не показалось» ни то, ни другое, и они назвали птицу кочет. А сколько смешных совпадений-несовпадений при этом у любимых наших славян получилось! Пресен в переводе с болгарского «свежий» (пресни томаты – «свежие помидоры»). Польское gruby – «толстый», а отнюдь не «грубый». Рот, означающий по-русски и по-чешски «уста», у болгар «холм», у словаков «возвышенность», у сербов «вершина, мыс» (кстати, у двух последних слово не имеет гласного, являя пример слогового плавного – rt). По-словацки и по-чешски presna otpoved – «точный ответ», ибо пресный значит «аккуратный, исправный». По-сербски издается журнал «Дописник и ногомет», т. е. «Корреспондент и футболист». Гора – у русских «сопка, возвышенность», у болгар «лес», а гору они называют словом планина. Туча по-украински – «гроза с дождем» (русское значение передается словом хмара), по-сербски – «град», по-польски – «радуга» (tecza). Чешское nahly не «наглый», а «быстрый»; bystry же, не «быстрый», а «сообразительный» (и по-русски ведь понятно: быстрый ум); rychly не «рыхлый», а «поспешный»; čerstvy не «черствый», а совсем напротив – «свежий»! Так же как zapominati отнюдь не «запоминать», а «забывать»...
– Ничего себе родственнички! – съехидничала Настя.
Она вспомнила, как один мальчик принес в школу чешский проспект, в котором быстроходные и тихоходные автомобили назывались rychla a pomala vozidla. Очень всем тогда понравилось это возидла! Даже учительницу-русачку спросили, и та объяснила, что это по-русски сказать возило: вы, сказала, сами в жаргоне водителя-таксиста называете возило или возила, как мазила. А исторически здесь-де тот же суффикс, только восточные славяне утратили в нем л. Чехи же этот суффикс сохранили как продуктивный: mydlo – от мыть, в соответствии с русским мыло; diwadlo – у русских от этого глагольного корня слова нет, ибо заимствовали западное театр; svetidlo – люстра; pradlo – бельё от древнего прати – «стирать» (ср.: прачка, прачечная); lětadlo – самолёт... Много таких слов!
В том же проспекте, помнится, прочли про космическую ладью – kosmicka lod. Учительница же подлила масла в огонь удовольствия: семья – по-чешски rodina, а родина, страна – vlast, а власть – vlada (т. е. правительство, администрация) и тос (т. е. мощь, сила). Учительница ездила в Чехию, и ей почему-то запомнилось объявление «Mimo provoz!» – вместо общеизвестного русского «Не работает!»
И тут наша героиня чуть не заревела: так жалко ей стало, что разбился общий язык. Мудры были Кирилл и Мефодий, пытаясь сдержать распад. Подумать только, если бы сегодня все славяне говорили на одном языке!
Гривна с укором, но согласно вздохнула:
– С историей не спорят. Она не знает сослагательного наклонения: что было бы, если бы да кабы... Беспокойтесь больше о настоящем, а то вы все печетесь то о будущем, то о прошлом. Люди – из прошлого, и их язык – само прошлое. На шкале ценностей оно дорого лишь тем, что помогает строить настоящее. Вот, к сожалению, к твоим дням дороги в прошлое поросли бурьяном... Из истории вытащили одну лишь идею «собирания земель», централизацию. Что скажешь, верная идея! Но она становится и вредоносной, когда ее абсолютизируют. Жизненные, производственные удобства важны, но... не хлебом единым жив человек.
От вятича Ворбя до москвички Воробьевой
Вот и закончилось путешествие в прошлое, прошелестев картинками далекой, доступной лишь воображению Москвы. «Этот город мне в подарок подарило детство». Стольный град на семи холмах, которому формально (по дошедшим источникам) от роду 837 лет, а на деле, наверное, не менее тысячелетия. А может быть, не детство подарило, а предки? Они умели хранить память, да и вещи – ту же Гривну, с помощью которой открылось окошко в прошлое.
Настя напевает: «Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет». А тут и название есть града деревянного, белокаменного, златоглавого, краснокирпичного, бетонно-стального и стеклянно-алюминиевого с рубиновыми пятиконечными звездами на всемирно известных башенных силуэтах Кремля. Знать значит любить. Нельзя любить то, чего не знаешь. Древний лик Москвы поразил и навсегда вошел в ее сознание волнующим чувством родины, широким, как бескрайние российские просторы, и глубоким, как вековое бытие русского народа. И чувство это теперь спаяно с ощущением живого русского языка.
Очевидица разных страниц жизни русского языка знает теперь, откуда поразительная наблюдательность и меткость русского слова, издревле создающего зримую живопись – так в морозной дали выписываются узоры новых далей. Непростая у языка история, и жизнь его полна праздников и трагедий, открытий и загадок. И чем больше узнаешь, тем больше возникает вопросов.
Сравнение с живым организмом хромает. Ведь это не то, если бы Настя увидела одного и того же человека беспомощным младенцем, беспечным мальчиком, порывистым юношей, мужчиной в расцвете сил, затем умудренным опытом и достигшим зенита жизни, наконец, стариком с недугами. Случайные по выбору этапа развития языка остановки показали его состояния, разные по общественным функциям, внутренним соотношениям, структурным признакам, но эти состояния – отнюдь не фотографии в семейном альбоме. Перемены языка не появление старческих морщин, а его движение не старение. Развиваясь, он даже молодеет. Вечное в скоротечном!
В каждом случае язык и в действии, функционировании (для этого он должен быть неизменным), и в движении. Всегда интересно и то, что он собой представляет, и то, что в нем происходит. Настя видела, как, например, исчезали сложные прошедшие времена глагола, а ее предки в пределах своего времени и не подозревали об этом, им казались эти формы естественными, вечными.
Изменение языка – процесс неровный. Бурные перестройки чередуются с длительной дремотой, застоем. Язык – как река, то плавно несущая свои воды по глади равнин, то низвергающаяся водопадом в горных ущельях. Машине времени нужно было бы пролетать то большие, то меньшие отрезки, чтобы всякий раз представить картину, заметно отличную от прежней. Останавливаясь раз в сотню лет, Настя видела то нечто очень схожее, то совсем новое. Ну и хорошо, что времена относительной устойчивости не проносились с ускорением, а близлежащие годы обновления не демонстрировались замедленной проекцией. Если бы, например, в XVIII веке было бы две остановки, а в XII или XIII веке ни одной, то не открылась бы истинная природа языкового развития – неоднородного, когда языки то не отличаются друг от друга очень долго, то теряют идентичность чуть ли не на протяжении десятилетий. Спады после взлетов души!
Что же это за тип движения – развитие языка? В любой момент истории это система, закономерно связанная со смежными. Отличная от предыдущей и последующей, она лишь видоизменение предшествующей и прообраз будущей. Перемени хотя бы точечку, картина уже не та, но здравый смысл сочтет ее новой, лишь когда таких точек, штрихов накопится действительно масса. Настино сознание охватило картину.
Славянская речь растеклась по всей Восточной Европе в VI – IX веках. Несущие ее племена в разных местах сталкивались с разными аборигенами. Родные вятичи, например, с финно-уграми. С кем поведешься, от того и наберешься! Вот и расселились кто в лес, кто по дрова и в общих законах языка. Обособляются племенные прадиалекты Юга, Запада, Востока. Они крепнут, становятся самостоятельными языками трех славянских групп.
К концу первого тысячелетия на Руси складывается на основе диалектных отличий еще в праязыке у тех племен, которые отправились на восток, древнерусский язык. Родство забывается, если его не лелеять. С глаз долой, из сердца вон. Этот язык идет иными путями, нежели западные и южные собратья. Вятичи хранят языковые традиции пуще всех. Громадную роль, однако, играет с приходом христианства и книжности южный старославянский язык. Он отчасти приостанавливает обособление, отчасти способствует созиданию новой самобытности. В письменности долгое время кажется, что эти два языка – восточнославянский и старославянский – сливаются в едином древнерусском. Но на самом деле их взаимоотношения куда сложнее. Они составляют сердцевину всего языкового развития восточных славян.
Составляют и тогда, когда формируются три ветви русичей со своими отдельными языками – русские, украинцы, белорусы. Попав в свою особую колею, москвичи и их соотечественники по-своему развивают черты, унаследованные от родителя. Объявляя себя наследниками древней славы, провозглашая Москву Римом славянского мира, они испытывают новое и сильное церковнославянское влияние. Избегнув рабовладельчества (эх, если бы еще позже обойтись без крепостного права!), переходя из первобытного строя сразу в феодализм, свободные люди восточнославянских племен и родов держатся старины в счастливые годы освоения новой родины. Это врожденное свойство восстанавливается и после монголо-татарского ига, после раскола Руси.
Но вот перед глазами другие «портреты» языка. Уже собственно русского – старорусского, великорусского, современного. Сколько их? По структуре и по общественным функциям вроде четыре. Постойте, да они соответствуют этапам истории русского народа и государства! Сморщив носик, Настя вновь мысленно прокручивает ход событий, обозначает в памяти язык X – XI веков с главным признаком – падением глухих, диалектные разветвления XII – XIV веков, закончившиеся распадом общего языка на три ветви. Это по учебнику истории – Киевская Русь, удельная раздробленность, затем – возвышение Владимиро-Суздальской Руси после иноземного ига.
Дальнейшие «портреты» связаны с Москвой. Тут и роль славянской книжности и письменности приказов, тут противоречия «язычий». Нынешний «портрет» тоже «набор» разных видов языкового творчества – от Пушкина до современности. И тут языковые процессы сообразуются с событиями в истории народа и страны, хотя прямо их и не отражают. Тут и превращение Московского государства в Российскую империю, затем в СССР, а сейчас... Насте, как и всем нам, еще предстоит узнать судьбу государства со столицей в Москве и, может быть, увидеть новый «портрет» русского языка.
Уникальна роль в истории русской языковой культуры славянской книжности. Славянизмы и народная речь – две главные темы истории русского литературного языка. Они пронизывают такие события, как преобразования Петра I, прорубившего окно в Европу, как реформы Ломоносова, как творчество Карамзина, Пушкина. На разных этапах соотношение структуры, объем и функции разновидностей языка – сначала его «штилей», затем современных речевых стилей – были поразительно различны. В последние десятилетия кодифицированный литературный стандарт, которому учат в школе, был весьма отличен от разговорной речи. Что принесет новый этап в присущей нашему языку противоречивой связи разных начал?
Настя восхитилась сама собой: ведь она как-то неожиданно для себя повторила лекцию университетского ученого! Своими словами, но зато куда прочувствованней. Понятны теперь и его казавшиеся позерством мудреные сомнения в прогрессе языка.
Едва ли какой другой язык в мире может быть сопоставлен с русским в той сложной и богатой истории, какую он пережил. Он оказался удивительно переимчивым к чужеязычным богатствам – славянским и византийским, восточным и западным, французским и американским. И в то же время оставался удивительно монолитным во времени и пространстве, необъятном пространстве, на которое он распространяется. Он стал языком величайшей культуры и литературы. Он служит языком общения в ближнем и дальнем зарубежье; как иностранный изучается во всех странах мира.
Полет на крыльях фантазии убеждает именно в прогрессе языка, отражающего поступательное движение общества. Машина времени раскрывает преемственность опыта русских людей и их ближайших соседей, которую обеспечивает язык, обогащаясь внутренне. Как один и тот же персонаж в различных сценах определяет свой характер, так и язык, веками примериваясь к разным потребностям, доходит до нас сокровищницей всей прошедшей жизни. Язык – герой, который взрослеет, умнеет, но не стареет и не дряхлеет. А может быть, раньше он был красивее, сильнее? Или, напротив, теперь похорошел, окреп?
Настя задумывается. В ее ушах живое слово отшумевших веков вызывает к яви образы остановленного времени, картины жизни несхожих сословий, типы разных людей, родные лица предков. Подьячий Воробьев и легкомысленная
Липочка, Дамиан Врабий и Кузька Воробей, мудрый Ворбь, которому поклонялся Гудошник... Скользит лодка по гладкой воде, меняется ландшафт на извивах реки, дремлет лес, склонившись над плесом, спит природа, кутаясь в тишину ночи. Струятся, плещутся чувства, играет слово, рожденное мгновением и взлелеянное неторопливой думой. В нем снега и зелень, мороз и жара, солнечный свет, первозданность полей и неба, бушующее весеннее пробуждение природы...
Но вот воображение рисует скорости города: кого они захватят, тот не вернется к сонливой неторопливости сельской жизни. И люди уже не дети природы. Дерево стало просто деревом, медведь не кажется более духом, воробей – просто прозвище. В языке вступают в силу новые ассоциации, уподобления по общему типу, по сходству и смежности. Всё сильнее внутренняя и внешняя аналогия, стремление к экономии и преодолению избыточности. Всё заметнее и осознанное вмешательство людей в язык.
Вероятно, надо говорить о прогрессе и просто изменении, которое трудно оценить знаком «плюс» или «минус». Да так именно и рассуждал бородатый лектор, различая абсолютный и относительный прогресс. Абсолютный, когда улучшается способность языка выражать мысль, и относительный, когда что-то упрощается, например «выталкивается» исключение в грамматике. И прав он, подвергая сомнению понятие прогресса применительно к искусству, к развитию человеческого духа. В самом деле, стала ли современная живопись прогрессивнее классики? Прогрессивнее ли литераторы XX века, чем писатели ХIХ-го или даже авторы Древней Греции? А язык ведь тоже во многом искусство!
При всем торжестве логики мы кожей ощущаем природу, хотя в этом вряд ли превзошли непосредственность дикаря. И невозможно оценить, что прогрессивнее – великая вера славян древности или новейшие изобретения компьютерной техники... Непреходящая и первостепенная ценность языка в том, что он хранит и бережет, передает в будущее завет и урок изначальной судьбы, смысла жизни и все поправки и уточнения, сделанные к ним поколениями.
Язык идет в глубину – и пространственно-географическую, и социально-историческую: к мечу Невского и Донского, к пронзающим душу словам песни-клятвы 41-го: «Идет война народная, Священная война...» Язык ведет в глубины народной памяти, национального духа. В неповторимом русском слове – сила добра и любви, в нем есть ярый огонь, но нет злобы: «Пусть ярость благородная / Вскипает как волна...»
Вот потому-то и дрогнет наше сердце, едва коснется нашего слуха древнее полузабытое слово, чутко отзовется любовью к жизни, нежностью к минувшему. Зданию век – надо сохранить, рукописи два столетия – памятник культуры, средневековая икона – ей цены нет. А слово, которое молвили тысячу лет тому назад, звучит и сегодня: оно и памятник, и живое, животворное настоящее.
Настя спохватывается. Гривна, сложившая с себя обязанности гида, уже не подскажет, не объяснит непонятное, не возразит. Вот теперь она, ясное дело, язвительно пробурчала бы, что, мол, раньше, по тебе, и сахар был слаще да и соль солоней. Не было-де раньше научных работников, но были мудрецы. И всё же не сравнить град деревян Юрия Долгорукого с нынешней Москвою, как ни восторгайся вятическими порядками!
И вообще, хватит этого ретро. А то получается, как со старым автомобилем: и смотреть приятно, и прокатиться можно, но... не ездить же на нем все время! Прошлое славно и великолепно, в нем плохое забывается, хорошее становится выпуклым, но жить надо настоящим. Как ни восторгайся естественным развитием языка в деревенских условиях, в близости с природой, это всего лишь его детство, когда эмоции сильнее разума, точнее, неотделимы от разума. Конфликт между ними, а он только и движет развитие, возникает, когда впечатления от окружающего мира начинают поверяться логическими построениями. Взросление языка связано с городом.
Отсутствие Гривны заставляет взрослеть и нашу героиню. Она переходит от впечатлений к логическим рассуждениям. Ясное дело, в век власти индустриального стандарта и массового производства заманчиво размягчиться первородным прямодушием, чувствительной красою природной образности языка деревни. Тем более что у каждого русского в уголке души гнездится еще первобытный пахарь. Но без города не было бы в языке силы и логики, изощренности и гибкой выразительности. Не было бы этого, как не было бы модной одежды, хитроумных приборов, высотных домов, космических ракет, видеомагнитофонов. Даже умножать плодородие пашни помогает сейчас город. Древность трогательна, но нужны и современные слова и понятия.
Яркий признак прогресса – транспорт. Родители ежедневно, только чтобы попасть на работу, делают более ста километров. Сама Настя ездит дважды в неделю на ипподром за 36 километров от дома. А если папины и мамины командировки собрать, то это тысячи и тысячи километров. Совсем недавно отважные первооткрыватели не одолевали столько пространства за всю жизнь. Основное же население было от рождения до смерти приковано к своей деревне и не удалялось от нее более чем на десяток-другой верст.
Сегодня Настя-школьница знает о мире больше, чем образованнейший человек лет 300 тому назад. Она знает, где Папуа, а ее предок не ведал, где Париж. Для нее привычны лайнеры и аэробусы, дизель-электроходы, аэросани, вездеходы, вертолеты. И она может побывать вообще где угодно при помощи кино, телевидения, видео. Сейчас вон, папа читал, даже глухарей в Подмосковье из сибирской тайги на самолете привезли!
Настя вновь спохватилась: опять ее занесло, теперь в противоположную сторону. Ну и народ мы, русские, никогда золотой середины не знаем! Как бы научиться не восторгаться с телячьей умиленностью ни прошлым, ни сегодняшним, ничего и никого не прославлять без меры, а здраво всё и всех оценивать? Язык связан с обществом – верно. Но связь эта отнюдь не всегда его украшает. Вот объявление из Настиной эпохи: «Магазин закрыт на спецобслуживание». Да, оно отражает действительность, но в каком еще обществе в какую еще эпоху могла родиться такая фраза? Ведь для обслуживания, пусть даже специального, магазин открывают! А вот и еще расхожая фраза, в которой логику могут усмотреть только современники ее появления: «Эту книгу невозможно купить, потому что она всем нужна»...
И всё же, какие нелепости в речи ни встречаются, не любить родной язык просто невозможно. Язык живет. Это значит, им пользуются разные люди, причем необязательно только умные и честные. И бедняга язык вынужден всех удовлетворять! Он всегда совершенен для общества, которое обслуживает, и для отдельных людей, которые им пользуются в своих целях. Соответственно у языка вырабатываются умения не только говорить правду, но и врать, создавать видимость мысли там, где ее нет.
Меняется жизнь, потребности людей, меняется и язык. Живя, меняется, но живет, потому что неизменен. Все дело в темпах изменения... Но есть изменения, которые на глазах. Вот лошади оказались в опале, перевели их, и из языка ушли названия мастей – вороной, каурый, пегий, саврасый. Настя усмехнулась, вспомнив, как никто в классе не мог сообразить, какого цвета гнедой конь. Но не исчезли эти слова, пока, по крайней мере, лишь ушли из общего активного запаса: ведь ребята в классе не знали цвет, но знали слово! Слова эти еще вернутся, потому что все больше желающих научиться верховой езде. Конь нужен человеку даже просто потому, что напоминает прошлое, украшает жизнь! И лошадей возродят!
Как изгоняли любые церковные слова, а чуть снялась опала – и опять на слуху Бог, патриарх, молитва, креститься, служить обедню, покаяние... И не лучше ли соборность, чем коллективизм?
Сила времени – приобретать. Живут наши современники при всех трудностях куда уютнее, удобнее, безопаснее, чем их предки. Давно забыли, что такое холод и голод, вражеский набег и рабство, мор и пожар. Занятия, быт, еда, развлечения – всё богаче, разнообразнее. Главное же, верят теперь люди только в себя, в свой разум. Сильные стали с наукой и техникой, всеобщим образованием. Если не умнее, то образованнее предков. Или все-таки умнее? Ум и знание...
Настя вновь вспомнила Гривну, как теперь повелось у нее всякий раз, когда запутывалась. Та, ясное дело, пропела бы речитативом, подлаживаясь под строй дописьменных былин: слово, что яблочко, с одного боку зеленое, с другого бока румяное, ты умей его, Настенька-Анастасьюшка, девица милая, повертывать!.. Не то, что праязык был плох, а жизнь обогатилась, усложнилась, и язык стал богаче, сложнее, чтобы ей соответствовать.
И Настя сама пробует развить мысль. Едва ли не самое главное богатство языка – его сложность. Не в смысле там окончаний, трудных написаний, а с точки зрения пригодности выполнять ловко самые разные работы, решать самые разные задачи. Как современная электронная аппаратура: чем сложнее внутри, тем проще с ней обращаться, тем удобнее и пригоднее она для пользователя.
У вятичей язык приспособился к зимней стуже и суровой лесной жизни. Как теплокровное животное, утепляясь мехом новых форм, или как растение, вырабатывая состояние зимнего покоя внутренним равновесием. Распевая озорные, шутейные песни, идущие от игрищ и русалий, вятичи обогащали язык, открывая в нем всё новые возможности не только в ходе тяжелой сельской работы, охоты, борьбы. Потом писатели, учёные... монахи...
Пусть нельзя, не став посмешищем, объяснить утрату ятя, отвердение ж и ш каким-то конкретным событием русской истории. Но это, как и все иные изменения, – доподлинно результат совокупной русской истории. Любая память – горести ли, радости ли – помогает ценить душевную открытость, пробуждает добро. Всё, что ни делается, к лучшему в этом лучшем из миров! Не так уж иронична эта Вольтерова фраза.
На благо любое изменение: может быть, мы просто не можем увидеть в нем прогрессивное зерно! Может быть, это просто незаметное для глаза совершенствование системы? Важно, что пережитое не склад музейных ценностей, а часть нас, сегодняшних. И язык особенно – он всегда с нами, хотя мы не всегда это осознаем. Язык – «не просто звуки, в нем труд, и пот, и муки, шум лесов, цветенье поля, волны радости народной. В нем разум класса, кровь и воля от давних дней и по сегодня». В нем живет, скорбит, негодует, верит, смеется сам народ. Язык окрашен, пронизан переживаниями людей и не внимает равнодушно добру и злу. Он и свидетель, и участник жизни. Поэтому каждое его слово, каждый звук, каждое изменение небезразличны и, раз жив народ, прогрессивны!
Могла бы Гривна по-прежнему говорить, как во время фантастического путешествия, она, ясное дело, что-нибудь да возразила бы. Но не могла бы она не согласиться с тем, что духовные ручейки, питающие реки народной жизни, порождают в языке нравственные ценности, делают его важнейшей частью национальной истории и культуры. И Настя вновь увлеклась патетическими фразами, которые легко и непрерывно рождались, роились в ее голове, вызывая в памяти где-то и когда-то слышанное и прочитанное.
Русский язык особый, животворящий, «животворный, полный разума». В нем столько музыки и столько красоты! В нем история великого народа, фантастически выносливого, пронесшего сквозь века страсть к победе, мечту о свободе и справедливости, веру в свое предназначение. Великий язык великого народа! Прозорливый ум русского гения давно отметил такие черты русского языка, как великолепие, пристойное испанскому (с Богом говорить!), живость – не хуже, чем во французском (с друзьями беседовать!), крепость – как в немецком (с неприятелем объясняться!), нежность – как в итальянском (с женским полом кокетничать!), сверх того – богатство, сильную в изображении краткость греческого и латинского языков.
Эту ломоносовскую мысль развивали Гоголь и другие писатели, еще далее раздвинувшие русскому языку границы, показав его пространство. В своем творчестве они во всем блеске ума и таланта воплотили заложенные в родном слове изобилие, богатство, силу, гибкость, легкость в выражении нежнейших чувствований. Они были убеждены, что история языка раскрывает историю народа, его судьбу. Свободным и сильным он стал гораздо раньше, чем установились крепостное право и деспотизм, и потому был постоянным противоядием пагубному действию угнетения. Он не потерпел ига татарского и владычества чуждых наречий в священных пределах своей словесности, не потерпел и «одноглазого» тоталитарного социализма.
Он спасал русских людей «во дни сомнений, тягостных раздумий» о судьбах родины, в заботах, бедах и трудах будней, фашистских и сталинских лагерях, в тылу и на фронте. Он – путеводная звезда в будущее нашей многострадальной, великой и любимой Отчизны.
По Гоголю, сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумывает свое, не всякому доступное умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово. Гоголь дивился драгоценности русского языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой вещи.
Карамзин свидетельствовал: язык наш выразителен не только для высокого красноречия, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Герцен считал русский язык гибким и могучим, способным выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики, и легкую сверкающую игру французского остроумия.
«Русский язык! – восклицал А. Толстой. – Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего... Дивной вязью плел народ невидимую сеть русского языка: яркого как радуга вслед весеннему дождю, меткого как стрелы, задушевного как песня над колыбелью, певучего... Дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь».
И никакая вражья сила не могла и никогда не сможет пошатнуть русский язык. В нем залог и наш символ веры... Мысли и фразы роились в голове нашей героини. Ей вдруг захотелось самой подняться на кафедру и читать лекцию перед наполненным залом. Ей есть что сказать. Она расскажет о языковой истории Славии, о внешней и внутренней истории русского языка – о его развитии как инструмента мышления и общения и как системы, как явления культуры.
Как ни прекрасны проповеди и княжеские речи седой старины, их не сравнить с прозой Чехова и стихами Блока.
Язык математических сочинений наивен и темен еще в XVIII веке, а сегодня российских математиков читает и почитает весь мир. Новые темы для обсуждения, описания и изложения требовали шлифовки и обработки русского языка, и поколения мыслителей, ученых, общественных деятелей, поэтов и писателей придавали ему своим незаурядным умом и тщанием те качества, которыми мир теперь восторгается. Сколько голов потрудилось над русским словом, чтобы сделать его выразительным для высокого красноречия, проникновенной задушевности поэзии, нежной простоты и тонкости разговора, выверенной точности науки! Сочиняли точные и лаконичные выражения, угадывали лучшие пути сочетания слов, лучший их выбор, вдыхали в слова новый смысл, искусно вплетали их в новые связи, оттачивали удобные синтаксические обороты...
Изменения языка как знаковой системы, его звукового и грамматического строя зависимы от состояния общества. Печаль и нежность природы, тысячелетний опыт предков, голос вещего Бояна и извечное хоровое начало на равнинных и лесных просторах, радость и напевы матери, звонкая чистота рассветов, грозный гул и грохот кровавых сражений и войн, широта морей и пашен, звучание многих языков далеких и близких соседей, индустриальный надрыв пятилеток – всё, всё, что питает память и душу, отражено в языковой материи. Отсюда музыкальность и красота русской речи. Прав, тысячу раз прав современный поэт: «Какое чудо, наш язык!»
Именно эстетика языка привлекала и привлекает к нему иностранцев. Вместе с информационной ценностью и общечеловеческой важностью раскрываемой им литературы, культуры, науки, образа жизни и сознания она сделала его одним из самых распространенных языков мира, посредством которых общаются между собой люди самых разных родных языков из всех стран нашей планеты. Как и английский и некоторые другие великие языки человечества, он любим, уважаем во всех уголках Земли.
Поэтому-то и нельзя безразлично сказать: не всё ли равно – акают или окают русские, такой у них грамматической строй или другой. Хотя аканье само по себе не лучше и не хуже оканья, случилось так, что именно аканье стало образцовым русским произношением. И став таковым, приобрело новую и непреходящую ценность. Оно связалось в сознании людей со всеми другими чертами русского литературного языка и стало на их фоне единственно*правильным, приемлемым, красивым.
Довольная стройностью своего рассуждения, но досадуя на его некоторую заумность, Настя продолжала размышлять. Это не кнопка: тут нажал, там выскочило. Надо много и долго понажимать разных кнопок. Внутренняя история отражает внешнюю, и отнюдь не нейтрально к характеру прогресса саморазвитие материи языка. Иное дело, что всё происходит в рамках заложенных в языке направлений, свойственных языку законов внутреннего системного развития. Впрочем, и сами эти законы подвержены изменениям, когда этого, хотя и неосознанно, захотят носители языка.
Русский язык обладает величайшими потенциями роста, он унаследовал неисчерпаемые внутренние силы. И, как завещал Пушкин, «не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». Он призывал дать ему «поболе воли, чтобы развивался сообразно законам своим». И сам потрудился, чтобы, по словам Белинского, сделать из русского языка чудо.
Нечего бояться: язык русский силен и смеет взглянуть на себя со стороны, высмеять свои недостатки. Настя со стыдом вспомнила Липочку. Пора и свой жаргон бросить. Неизбывное чувство патриотизма спасало наш язык – и язык отдельных людей, и язык всего народа. Не засорять язык вовсе не значит держать его в неприкосновенности, чего испокон веку не бывало и быть не может. Но всякое новшество, всякое изменение должно иметь смысл, должно оцениваться эстетически. Экология языка не менее важна, чем забота о сохранности природы, окружающей среды. И тут ведь речь идет не о неприкосновенности, а лишь о разумном природопользовании...
Язык меняется уже в силу постоянной проблемы отцов и детей. Он обеспечивает связь времен, но и служит новым идеям, интересам молодого поколения. Иной раз современным немцам и русским легче понять друг друга, чем сегодняшним русским и русичам древности. Причем имеются в виду не только собственно содержание, внеязыковой смысл, но и качества языка, синтаксические построения, лексика, стиль. Настя почему-то вспомнила полюбившегося больше других предков Кузьму, и ей стало немножко грустно.
Казалось бы, что ей за дело до родившихся при лучине Воробьевых, до их странно тягучей и малопонятной речи? Но есть в их опыте, в самом даже факте их существования что-то, отчего жизнь наша становится понятнее. В родословной простых русских людей Воробьевых жило и живет чаянье бессмертия, возможного лишь в исторической преемственности. Без этого не было бы нации, были бы Иваны, не помнящие родства.
И самой великой, самой очевидной, самой надежной связкой поколений служит язык. Именно он несет крупицы исторической правды, смысла существования. Во все века оставались Воробьевы самими собою – русскими, москвичами. И язык менялся, оставаясь русским. А не будь этого в непостоянстве постоянства – «Прощай, Москва, златые главы, / Тебя мне больше не видать»!
Заглянув в историю русского языка, Настя влюбилась в него. Узнанное, почувствованное, услышанное заставило думать, сопоставлять, фантазировать. Мы все в ответе за русский язык перед предками и перед потомками.
В Настиной жизни наступил «момент истины», когда видишь себя, свою жизнь как бы со стороны – частицей народа, его истории. И оттого яснее понимаешь сегодняшнее общество и свое призвание, свое место под солнцем. Становится невозможным обходиться без чего-то, и, наоборот, тогда даже нужное, важное для тебя уступает место неотложному, еще более значимому. Может быть, ипподром отойдет теперь на задний план.
Настя твердо решила посвятить жизнь русскому языку. Ясное дело, после школы она поступит на филологический факультет...
Укладывая Гривну на место в папином столе, Настя позавидовала: сколько ее недавняя спутница видела, сколько всего знает! А Насте еще много предстоит учить, узнавать, постигая великое таинство языка.
Быстро бежит время. То, что есть сегодня, завтра уже история. Кажется, только-только собралась с Гривной в путешествие, а это уже событие «времен Очакова и покоренья Крыма». Наши дни отмечены высокими темпами, скоростями, стремлением к точности. Словоупотребление тяготеет при всем многообразии оттенков к математической компьютерной однозначности. Но чудачества языка не прекращаются, напротив, становятся всё милей. Тем языку милей, чем чудней!
Действительность шумит, волнуется, спешит, торопит, требуя воплощения в языке. И он помогает людям осмыслить, откуда что движется и куда. В ушах стоят прощальные слова Гривны, сказанные с яростной горечью: если б ею пользовались, как ее собратьями, она давно перестала бы существовать, быть собой. Пусть, сказала она, перед тем как навсегда замолкнуть, язык поможет тебе осмыслить эту печальную истину. Язык ведь всё может. Он один живет, когда им пользуются, и умирает, лишь когда его забывают.
Да, если бы Гривну употребляли, как деньги, то давно перелили бы в слиток, разрубили бы, переплавили в монеты или в украшения по меняющейся моде. Но она жила бы в них, перестав быть собой. Есть один только способ сохранить себя неизменно – умереть. Обрести бессмертие, принеся в жертву жизнь. Такие мертвецы живут искусственной жизнью мумии. Никому не нуж- ' ной.
Время может, правда, облагородить такой осколок, выброшенный за борт живого. Даже обломок неудачного, не пошедшего в дело или разбившегося глиняного горшка обретает ценность – как памятник, как наглядное свидетельство исчезнувшего мира. Но человеку нужно таких осколков ровно столько, сколько места на бархате музейных витрин. Чтобы вещь из прошлого стала сверхценной, все другие такие же должны изжить себя, не существовать, а она, одна-единственная, сохраниться, мумифицироваться заживо, еще до конца не использованная. Это и сделали Воробьевы с Гривной...
Настя вспомнила грусть Гривны при расставании. «Миг смерти даст бессмертьем овладеть. Ведь призраки не могут умереть». Род кончается. Нет, мужская линия рода кончается. Капля крови, наследственный механизм – в каждом москвиче и каждой москвичке. Настя вдруг вновь ощутила свою ответственность, но уже как бы с другого бока. Выбор профессии предстал как долг: передать потомкам, как бесконечная вереница предков вкладывала свой ум и пот в русский язык, завещая в нем вновь рожденным всех себя, живших на этой земле.
Что нас объединяет? Клеточка, ген? Язык заботливо принуждает потомков думать о предках, как предки думали о потомках. В отличие от Гривны язык не музеен, он и символ, и живая связь. Чудо языка не дает народу рассыпаться. Есть и иные цементирующие силы – общие радости и беды, государственность, социальные идеалы, историческая память, особенности веры, быта, труда. Культура объединяет народ. Но во всем первая роль – языка!
В Насте пробудилось благороднейшее человеческое чувство продолжения, сохранения рода, сопричастности с историей. Ее предки – исконные москвичи, живущие в Москве со времен доисторического Ворбя. Они сквозь века пронесли ощущение себя коренными жителями, наследниками первопроходца. Потому и увековечили они в своей фамилии имя пращура. Как своеобразный пережиток тотемизма хранили они не только имя, но и Гривну. «Это надо же, так беречь семейную традицию! – восхищенно восклицает Настя. – Столько поколений Гривну передавать, не испортить, не истереть, не продать, не заложить!»
Глаза ее на мокром месте. Ей стыдно, что как-то бросила в раздражении, что не передаст ее по наследству. Нет, нет, будет хранить как зеницу ока. И не столько Гривну, сколько язык русский! Что было до меня на той земле, где живу и где жили предки, что за язык их и нас объединяет? Знать это – врожденная потребность человека, основа основ.
Сколько сил, ума, труда вложено в каждый род! В русскую славу, в русский язык! Есть что беречь, есть чем гордиться! Родина, она в нас. Мы – наследники исторических ценностей, всего, что создано предками, и прежде всего русского языка. Он не в музее, не на бархате. Живой, как жизнь, он хранит историю, меняясь. Из книг, устных легенд, из народной памяти вырисовывается то, что называют душой народа. И язык держит в себе слова-символы: аркан, ясак, крепостное право, дранг нах остен, совок, беспредел, но и икона Владимирской Божьей Матери, поле Куликово, Бородино, Орловско-Курская дуга, спутник, мир, демократия, свобода, Россия, Москва...
Культура страны – это отношения человека к человеку, участие в общей жизни, обычаи ежедневного быта и – последнее по перечислению, но не по значению – забота, ревнительство о языке. Культурное общество внимательно к своей языковой жизни, в нем престижны лингвистические знания. Увы, мы, Настины современники, часто безответственно относимся к слову. Призываем к культуре речи, а на деле безразличны к ней. Вот, сама Настя со своим жаргоном...
Заколдованный круг? Нет, давно расколдованный. Да и не было тут никакого колдовства. Тот же жаргон привлекает новизной, каким-то эпатажем, противопоставлением себя взрослым, самоутверждением. И Бог с ним! Это как оспа-ветрянка – надо переболеть. Главное же в том, что язык требует внимания, ласки, заботы, любви. Он мстит тем, кто про него забывает, кто его как бы не замечает, кто о нем не думает. Ведь мало думать на языке, совершенно необходимо и думать о языке! Так же, как нельзя не думать об отцах, о родовых корнях, о родном городе, об отчизне. Неслучайно одного корня отечество и отчество – русское и книжное слова.
Немыслимый ты город, Москва! Тем и дорога сердцу каждого русского, что здесь основался дух России – «русская идея», культура и могучее русское слово. Всегда живет в москвичах ощущение, что все еще только начинается, что впереди за далью даль. Вспомнилось пушкинское: бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное. Сбылось! Наша героиня твердо знает свой патриотический и узкосемейный долг – заботиться о русском языке, посвятить ему свою жизнь. Долг перед предками и потомками.
Мы не унаследовали язык от предков, мы его берем взаймы у потомков! Только в этом проверка нравственности, совести, духовности, без которых мы будем потеряны в бурном океане современных проблем. Часы, по которым мы живем, отсчитывают второе тысячелетие. Стрелка компаса знала отклонения, но в целом вела по верному пути. Неужто Настино поколение потеряет ориентиры, установленные историей?
Что сохранить из традиции? Чем мы сильны? Что мы сделали для себя и для всего мира, мировой культуры, человечества? Где и в чем ошибались? Где язык, высший судия и советчик, нас поправлял, но мы не хотели слушаться?..
Будем же как клятву повторять заповеданные нам строки великого русского поэта Анны Ахматовой, написанные в феврале грозного 1942 года: Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, – И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки.