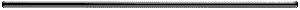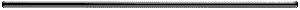
РОМАНС ОБ ИСПАНСКОЙ ЖАНДАРМЕРИИ Их кони черным-черны, и черен их шаг печатный. На крыльях плащей чернильных блестят восковые пятна. Надежен свинцовый череп - заплакать жандарм не может; въезжают, стянув ремнями сердца из лаковой кожи. Нолуночны и горбаты, несут они за плечами песчаные смерчи страха, клейкую мглу молчанья. От них никуда не деться - скачут, тая в глубинах тусклые зодиаки призрачных карабинов. О звонкий цыганский город! Ты флагами весь увешан. Желтеют луна и тыква, играет настой черешен. И кто увидал однажды - забудет тебя едва ли, город имбирных башен, мускуса и печали! Ночи, колдующей ночи синие сумерки пали. В маленьких кузнях цыгане солнца и стрелы ковали. Плакал у каждой двери израненный конь буланый. В Хересе-де-ла-Фронтера петух запевал стеклянный. А ветер, горячий и голый, крался, таясь у обочин, в сумрак, серебряный сумрак ночи, колдующей ночи. Иосиф с девой Марией к цыганам спешат в печали - она свои кастаньеты на полпути потеряли. Мария в бусах миндальных, как дочь алькальда, нарядна; плывет воскресное платье, блестя фольгой шоколадной. Иосиф машет рукою, откинув плащ златотканый, а следом - Педро Домек и три восточных султана. На кровле грезящий месяц дремотным аистом замер. Взлетели огни и флаги над сонными флюгерами. В глубинах зеркал старинных рыдают плясуньи-тени. В Хересе-де-ла-Фронтера - полуночь, роса и пенье. О звонкий цыганский город! Ты флагами весь украшен... Гаси зеленые окна - все ближе черные стражи! Забыть ли тебя, мой город! В тоске о морской прохладе ты спишь, разметав по камню не знавшие гребня пряди... Они въезжают попарно - а город поет и пляшет. Бессмертников мертвый шорох врывается в патронташи. Они въезжают попарно, спеша, как черные вести. И связками шпор звенящих мерещатся им созвездья. А город, чуждый тревогам, тасует двери предместий... Верхами сорок жандармов въезжают в говор и песни. Часы застыли на башне под зорким оком жандармским. Столетний коньяк в бутылках прикинулся льдом январским. Застигнутый криком флюгер забился, слетая с петель. Зарубленный свистом сабель, упал под копыта ветер. Снуют старухи цыганки в ущельях мрака и света, мелькают сонные пряди, мерцают медью монеты. А крылья плащей зловещих вдогонку летят тенями, и ножницы черных вихрей смыкаются за конями... У Вифлеемских ворот сгрудились люди и кони. Над мертвой простер Иосиф израненные ладони. А ночь полна карабинов, и воздух рвется струною. Детей пречистая дева врачует звездной слюною. И снова скачут жандармы, кострами ночь засевая, и бьется в пламени сказка, прекрасная и нагая. У юной Росы Камборьо клинком отрублены груди, они на отчем пороге стоят на бронзовом блюде. Плясуньи, развеяв косы, бегут, как от волчьей стаи, и розы пороховые взрываются, расцветая... Когда же пластами пашнп легла черепица кровель, заря, склонясь, осенила холодный каменный профиль... О мой цыганский город! Прочь жандармерия скачет черным туннелем молчанья, а ты - пожаром охвачен. Забыть ли тебя, мой город! В глазах у меня отныне пусть ищут твой дальний отсвет. Игру луны и пустыни.
ТРИ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНСА
МУЧЕНИЯ СВЯТОЙ ОЛАЙИ
ПАНОРАМА МЕРИДЫ
На улице конь играет,
и по ветру бьется грива.
Зевают и кости мечут
седые солдаты Рима.
Ломает гора Минервы
иссохшие пальцы тисса.
Вода взлетит над обрывом -
и вниз, как мертвая птица.
Рваные ноздри созвездий
на небосводе безглазом
ждут только трещин рассвета,
чтоб расколоться разом.
Брань набухает кровью.
Вспугнутый конь процокал.
Девичий стон разбился
брызгами алых стекол.
Свищет точильный камень,
и рвется огонь из горна.
Быки наковален стонут,
сгибая металл упорно.
И Мерилу день венчает
короной из роз и терна.
КАЗНЬ
Взбегает нагая зелень
ступеньками зыбкой влаги.
Велит приготовить консул
поднос для грудей Олайи.
Жгутом зеленые вены
сплелись в отчаянном вздохе.
В веревках забилось тело,
как птица в чертополохе.
И пальцы рук отсеченных
еще царапают плиты,
словно пытаясь сложиться
в жалкий обрубок молитвы,
а из багровых отверстий,
где прежде груди белели,
видны два крохотных неба
и струйка млечной капели.
И кровь ветвится по телу,
а пламя водит ланцетом,
срезая влажные ветви
на каждом деревце этом, -
словно в строю серолицем,
в сухо бряцающих латах,
желтые центурионы
шествуют мимо распятых...
Бушуют темные страсти,
и консул поступью гордой
поднос с обугленной грудью
проносит перед когортой.
ГЛОРИЯ
Снег оседает волнисто.
С дерева виснет Олайя.
Инистый ветер чернеет,
уголь лица овевая.
Полночь в упругих отливах.
Шею Олайя склонила.
Наземь чернильницы зданий
льют равнодушно чернила.
Черной толпой манекены
заполонили навеки
белое поле и ноют
болью немого калеки.
Снежные хлопья редеют.
Снежно белеет Олайя.
Конницей стелется никель,
пику за пикой вонзая.
Светится чаша Грааля
на небесах обожженных,
над соловьями в дубравах
и голосами в затонах.
Стеклами брызнули краски.
Белая в белом Олайя.
Ангелы реют над нею
и повторяют: - Святая...
НЕБЫЛИЦА О ДОНЕ ПЕДРО И ЕГО КОНЕ РОМАНС С РАЗМЫТЫМ ТЕКСТОМ Едет верхом дон Педро вниз по траве пригорка. Ай, по траве пригорка едет и плачет горько! Не подобрав поводья, бог весть о чем тоскуя, едет искать по свету хлеба и поцелуя. Ставни, скрипя вдогонку, спрашивают у ветра, что за печаль такая в сердце у дона Педро... На дно затоки уплыли строки. А по затоке плывет, играя, луна - и с высот небесных завидует ей вторая. Мальчик с песчаной стрелки смотрит на них и просит: - Полночь, ударь в тарелки! ...Вот незнакомый город видит вдали дон Педро. Весь золотой тот город, справа и слева кедры. Не Вифлеем ли? Веет мятой и розмарином. Тает туман на кровлях. И к воротам старинным цокает конь по плитам, гулким, как тамбурины. Старей и две служанки молча открыли двери. - "Нет", - уверяет тополь, а соловей не верит... Под водою строки плывут чередою. Гребень воды качает россыпи звезд и чаек. Сна не тревожит ветер гулом гитарной деки. Только тростник и помнит то, что уносят реки. ...Старец и две служанки, взяв золотые свечи, к белым камням могильным молча пошли под вечер. Бедного дона Педро спутник по жизни бранной, конь непробудно спящий замер в тени шафранной. Темный вечерний голос плыл по речной излуке.; Рог расколол со звоном единорог разлуки. Вспыхнул далекий город, рухнул, горящий. Плача побрел изгнанник, точно незрячий. Подняли звезды вьюгу. Правьте, матросы, к югу... Под водою слова застыли. Голоса затерялись в иле. И среди ледяных соцветий - ай! - дон Педро лягушек тешит, позабытый всеми на свете.
ФАМАРЬ И АМНОН Луна отраженья ишет, напрасно кружа по свету, - лишь пепел пожаров сеют тигриные вздохи лета. Как нервы, натянут воздух, подобный ожогу плети, и блеянье шерстяное колышет курчавый ветер. Пустыня к небу взывает рубцами плеч оголенных, от белых звезд содрогаясь, как от иголок каленых. Ночами снится Фамари, что в горле - певчие птицы, и снятся льдистые бубны и звуки лунной цевницы. И гибким пальмовым ветром встает нагая при звездах, моля, чтоб жаркое тело осыпал инеем воздух. На плоской кровле дворцовой поет под небом пустыни. И десять горлинок снежных в ногах царевны застыли. И наяву перед нею вырос Амнон на ступени, смоль бороды задрожала, пеною чресла вскипели. Из-за решетки глядит он полными жути глазами. Стоном стрелы на излете вздох на губах ее замер... А он, рукой исхудалой обвив железные прутья, в луну впивается взглядом и видит сестрины груди. В четвертом часу под утро в постель он лег, обессилев, пустые стены терзая глазами, полными крыльев. Тяжелый рассвет хоронит под бурым песком селенья - на миг приоткроет розу, на миг процветет сиренью. Колодцев тугие вены в кувшины сливают эхо. В изгибах корней замшелых шипит, извиваясь, эфа. Амнон на кровати стонет, затихнет на миг - и снова спаленное бредом тело обвито плющом озноба. Фамарь голубою тенью, в немой тишине немая, вошла - голубей, чем вена, тиха, как туман Дуная. - Фамарь, зарей незакатной сожги мне грешные очи! Моею кровью горючей твой белый шелк оторочен. - Оставь, оставь меня, брат мой, и плеч губами не мучай - как будто осы и слезы роятся стайкою жгучей! - Фамарь, концы твоих пальцев, как завязь розы, упруги, а в пене грудей высоких две рыбки просятся в руки... Сто царских коней взбесились - качнулась земля от гула. Лозинку под ливнем солнца до самой земли пригнуло. Рука впивается в косы, шуршит изодранной тканью. И струйки теплым кораллом текут по желтому камню. О, как от дикого крика все на земле задрожало. Как над сумятицей туник заполыхали кинжалы. Мрачных невольников тени по двору мечутся немо. Поршнями медные бедра ходят под замершим небом. А над Фамарью цыганки, простоволосы и босы, еле дыша, собирают капли растерзанной розы. Простыни в запертых спальнях метит кровавая мета. Светятся рыбы и грозди - влажные всплески рассвета. Насильник от царской кары уходит верхом на муле. Напрасно вдогонку стрелы нубийцы со стен метнули. Забили в четыре эха полков голубые луны. И ножницы взял Давид - и срезал на арфе струны.
ПОЭТ В НЬЮ-ЙОРКЕ 1929 - 1930
СТИХИ ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ В КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ Я в этом городе раздавлен небесами. И здесь, на улицах с повадками змеи, где ввысь растет кристаллом косный камень, пусть отрастают волосы мои. Немое дерево с культями чахлых веток, ребенок, бледный белизной яйца, лохмотья луж на башмаках, и этот беззвучный вопль разбитого лица, тоска, сжимающая душу обручами, и мотылек в чернильнице моей... И, сотню лиц сменивший за сто дней, - я сам, раздавленный чужими небесами.
1910 (Интермедия) Те глаза мои девятьсот десятого года еще не видали ни похоронных шествий, ни поминальных пиршеств, после которых плачут, ни сутулых сердец, на морского конька похожих. Те глаза мои девятьсот десятого года видели белую стену, у которой мочились дети, морду быка да порою - гриб ядовитый и по углам, разрисованным смутной луною, дольки сухого лимона в четкой тени бутылок. Те глаза мои все еще бродят по конским холкам, по ковчегу, в котором уснула Святая Роза, по крышам любви, где заломлены свежие руки, по заглохшему саду, где коты поедают лягушек. Чердаки, где седая пыль лепит мох и лица, сундуки, где шуршит молчанье сушеных раков, уголки, где столкнулся сон со своею явью. Там остались и те глаза. Я не знаю ответов. Я видел, что все в этом мире искало свой путь и в конце пустоту находило. В нелюдимых ветрах - заунывность пустого пространства, а в глазах моих - толпы одетых, но нет под одеждами тел!
ИСТОРИЯ И КРУГОВОРОТ ТРЕХ ДРУЗЕЙ Эмилио, Энрике и Лоренсо. Все трое леденели: Энрике - от безвыходной постели, Эмилио - от взглядов и падений, Лоренсо - от ярма трущобных академий. Эмилио, Энрике и Лоренсо. Втроем они сгорали: Лоренсо - от огней в игорном зале, Эмилио - от крови и от игольной стали, Энрике - от поминок и фотографий в стареньком журнале. И всех похоронили: Лоренсо - в лоне Флоры, Эмилио - в недопитом стакане, Энрике - в море, в пустоглазой птиие, в засохшем таракане. Один, второй и третий. Из рук моих уплывшие виденья - китайские фарфоровые горы, три белоконных тени, три снежных дали в окнах голубятен, где топчет кочет стайку лунных пятен. Эмилио, Энрике и Лоренсо. Три мумии с мощами мух осенних, с чернильницей, запакощенной псами, и ветром ледяным, который стелет снега над материнскими сердцами, - втроем у голубых развалин рая, где пьют бродяги, смертью заедая. Я видел, как вы плакали и пели и как исчезли следом, развеялись в яичной скорлупе, в ночи с ее прокуренным скелетом, в моей тоске среди осколков лунной кости, в моем веселье, с пыткой схожем, в моей душе, завороженной голубями, в моей безлюдной смерти с единственным запнувшимся прохожим. Пять лун я заколол над заводью арены - и пили веера волну рукоплесканий. Теплело молоко у рожениц - и розы их белую тоску вбирали лепестками, Эмилио, Энрике и Лоренсо. Безжалостна Диана, но груди у нее воздушны и высоки. То кровь оленья поит белый камень, то вдруг оленьи сны проглянут в конском оке. Но хрустнули обломками жемчужин скорлупки чистой формы - и я понял, что я приговорен и безоружен. Обшарили все церкви, все кладбища и клубы, искали в бочках, рыскали в подвале, разбили три скелета, чтоб выковырять золотые зубы. Меня не отыскали. Не отыскали? Нет. Не отыскали. Но помнят, как последняя луна вверх по реке покочевала льдиной и море - в тот же миг - по именам припомнило все жертвы до единой.
НЕГРЫ НРАВ И РАЙ НЕГРОВ Ненавистны им птичьи тени в белой наледи щек холеных и раздоры огня и ветра в облицованных льдом салонах. Ненавистны платки прощаний, лук без цели и звук без эха и запрятанные колючки в алой мякоти злачного смеха. Их манит синева безлюдий, колокольная поступь бычья, и прилива кривая пляска, и лукавой луны обличья. Тайновидцы следов и соков, сетью искр они будят болота и хмелеют от горькой прохлады своего первобытного пота. Ибо там, в синеве хрустящей без червей и следов лошадиных, где над яйцами страуса стелется вечность и колышется танец дождинок, в синеве изначальной, где ночь не боится рассвета, где походкой сомнамбул верблюды туманов бегут от нагого кочевника-ветра, там, где сладко траве над тугими телами стелиться, где рядится в кораллы чернильная скорбь вековая и под связками раковин меркнут усопшие лица, разверзается танец, из мертвого пепла вставая.
ОДА КОРОЛЮ ГАРЛЕМА Своей поварешкой он на кухне глаза вырывал крокодилам и непослушных обезьян лупил по заду. Своей поварешкой. Спал вечный огонь в сердцевине кремней искрометных, и скарабеи, пьянея от вкуса аниса, совсем забывали тусклый мох деревенский. Черный старик, поросший грибами, шел отрешенно в потемки, где плакали нефы, а король поварешкой скрипел и скрипел, и цистерны с протухшей водой прибавлялись. Розы бежали по лезвию бритвенной гибкости ветра, и на помойках в шафранной пыли маленьких белок терзали дети, пылая пятнистым румянцем зверства. Мы должны перейти мосты и покрыться черным румянцем, чтобы запах легочной тьмы наотмашь хлестнул теплотой ананаса по нашим бескровным лицам. Мы должны убить белокурого, который торгует водкой, и всех друзей и сообщников яблока и песка, мы должны кулаком ударить по кипящим сгусткам фасоли, - пусть король Гарлема поет, пусть поет со своим народом, и в длинной шеренге тесной, под асбестом луны небесной, крепко пусть крокодилам спится, и пусть никто не рискнет усомниться в красоте бесконечной, вечной поварешек, щеток, и терок, и котлов, и кастрюль, и конфорок на черных-пречерных кухнях. О Гарлем! О Гарлем! О Гарлем! Никакая тоска на земле не сравнима со взором твоим угнетенным, не сравнима с кровью твоею, сотрясаемой в недрах затменья, с яростью глухонемой, во мраке - совсем гранатовой, и с твоим королем великим, задыхающимся в ливрее. Зияла в полуночной тверди глубокая трещина, и замерли там саламандры из кости слоновой. Молодые американки были беременны одновременно детьми и деньгами, а кавалеры изнемогали на крестах ленивой зевоты. Это они. Это они у подножья вулканов пьют и пьют серебристое виски и глотают, глотают кусочки сердца на ледяных медвежьих горах. Этой ночью король Гарлема беспощадной своей поварешкой на кухне глаза вырывал крокодилам и непослушных обезьян лупил по заду. Своей поварешкой. Плакали негры, теряясь в калейдоскопе солнечных зонтиков и золотистых солнц, щеголяли мулаты, смертельно тоскуя по белому телу, и от ветра туманило зеркала и упругие вены рвало у танцоров. Черные,черные, черные, черные. Ваша ночь опрокинута навзничь, и могучая кровь не имеет выхода. Нет румянца. Есть кровь под кожей, гранатовая от ярости, кровь, живая на красных шипах ножевых и в груди у природы кровной, во мраке теней от клешней и терний луны, в небесах горящей как рак. Кровь, которая ищет на тысяче древних дорог запыленные кости, и пепел белесый, и арки небес, коченеющих ночью, где бродят безмолвные толпы планет вдоль пляжей пустынных, со всячиной всякой, забытой людьми и потерянной здесь. Кровь, сатанински медленно следящая краем глаза, сок, отжатый из дрока, темный нектар подземный, кровь, от которой ветер, в ямке застряв, ржавеет, кровь, которая может рассасывать мотыльков на оконных стеклах. Эта кровь - на подходе, и скоро по крышам, решеткам балконным явится с яростным стоном, чтоб жечь полыханьем зловещим хлорофилл белокурых женщин, рокотать в изголовьях кроватей, рядом с белой бессонницей раковин, и устроить всемирный потоп - в желтый час, на рассвете табачного цвета. Да, бежать и бежать, бежать и скорей запираться на чердаках небоскребов, прижиматься к темным углам, потому что душа этих дебрей в каждую щелку проникнет и оставит на вашем теле отпечаток легчайший тьмы величайшей и печаль, которая будет дешевле полинялой перчатки и розы фальшивой. И тогда в безмолвии мудром повара, и официанты, и все, кто своим языком зализывает раны миллионеров, ищут черного короля - на улицах и перекрестках, где витает призрак селитры. Южный древесный ветер, втянутый в черный омут, гнилые лодки выплевывает и в плечи вонзает иглы; южный ветер, носильщик, погонщик шелухи, букварей, окурков и вольтовых дуг, в которых - кремированные осы. Забвенье - три крошечных капли чернил на стекляшке монокля, любовь - единственный образ, незримый на плоскости камня. Сплетались над облаками пестики с лепестками, но стебли кишели в бездне - и ни единой розы. Справа, слева, с юга и севера, со всех четырех сторон вырастает стена, непосильная для крота и сверла водяного. Не ищите в ней, негры, трещин - там все та же глухая маска. Ищите под гул ананаса великое солнце в зените. Солнце, скользящее в лиственной гуще с трезвым знаньем, что нимфа не встретится в чаще, солнце, крушащее цифры и числа, но вовек не спугнувшее хрупкого сна, солнце, покрытое татуировкой, солнце, плывущее вниз по реке, мычащее, жадных кайманов дразнящее. Черные, черные, черные, черные. Зебра, и мул, и змея не бледнеют, когда умирают. И лесоруб никогда не уловит мгновение смерти в стоне деревьев, которые он убивает. Так пускай до поры укрывает ваши черные корни древесная тень короля, замрите, и ждите, и дайте крапивам, цикутам и терниям острым вскарабкаться выше, на самые крыши всех высочайших домов. Тогда, о негры, тогда, тогда-то вы сможете яростно целовать колеса быстрых велосипедов, совать глазастые микроскопы в потемки беличьих дупел узких, и, наконец, ничего не боясь, плясать исступленно и всласть наплясаться, а в тростниках, высоко в облаках, наш Моисей обескровится в терниях. О Гарлем маскарадный! О Гарлем, перепуганный насмерть толпой безголовых костюмов! Я слышу твой рокот, я слышу твой рокот за кроной деревьев и ребрами лифтов, за серыми каплями слез, где тонут автомобили, их зубастые автомобили, я слышу твой рокот за трупами лошадей, за тьмой преступлений мелких, за твоим королем великим и глубоко несчастным, - с бородой, впадающей в море.
ПОКИНУТАЯ ЦЕРКОВЬ (Баллада о великой войне) У меня был сын. Его звали Хуан. У меня был сын. На страстной он пропал среди арок. Помню, как он играл на последних ступеньках мессы, жестяное ведерко кидая священнику в сердце. Я стучался во все могилы. Сын мой! Сын мой! Я вынул куриную лапку из-за края луны и понял, что любовь моя стала рыбкой - там, куда уплывают повозки. У меня была милая. У меня была мертвая рыбка под пеплом кадильниц. У меня было целое море... Боже мой! У меня было море! Я хотел зазвонить с колокольни, но черви точил" плоды, и горелые спички глодали весеннее жито. Видел я, как прозрачный журавль алкоголя расклевывал черные лбы умиравших солдат, и видел палатки, где пускали по кругу стакан со слезами. В анемонах причастия обрету я тебя,мое сердце, когда сильные руки священника поднимут вола и мула, отпугнув от морозной чаши полночных жаб. У меня был сын, и мой сын был сильным, но мертвые все же сильнее и могут обгладывать небо. Был бы сын мой медведем, не боялся б я хитрых кайманов, не глядел, как солдаты насилуют море, причалив его к деревьям. Был бы сын мой медведем! От холодного мха я забьюсь под брезент. Я же знаю - дадут мне рукав или галстук, но к середине мессы все равно я сломаю руль и взмоет с камней безумье пингвинов и чаек, заставляя всех спящих и поющих под окнами вторить: у него был сын. Сын его, сын, он был только его и больше ничей, это был его сын! Его сын.
УЛИЦЫ И СНЫ
ПЛЯСКА СМЕРТИ
Призрак! Взгляните - призрак!
Призрак с берегов Африки летит в кварталы
Нью-Йорка!
Где же горькие деревья перца
с маленькими фосфорными бутонами?
Где верблюды с усталой плотью
и волны света, проткнутые лебединым клювом?
Взгляните, все высохло:
колосья ослепли, и звери сплющились,
заржавело железо на высоких мостах,
и пробковая тишина разлилась вокруг.
Взгляните, все мертвые звери собрались вместе,
пронзенные острым светом дня;
гиппопотам вытянул лапу с копытом из пепла,
а во рту у газели зацвела повилика.
А в тишине, увядшей и пустынной,
пляшет раздавленный призрак.
Позади - пески половины мира,
впереди - ртуть другой половины,
где не всходит солнце.
Призрак! Взгляните - призрак!
Песок пустыни и страх крокодиловой бездны
летит над Нью-Йорком!
***
Известковая тишина сковала пустое небо,
где звучат голоса рабов, погибших в земле
плантаций,
чистое небо, бесстрастное и пустое,
и цветы затерялись в его невидимых далях.
Здесь подрезаны самые нежные стебли песен,
здесь соки деревьев стали мертвой резиной,
здесь последние тихие звезды
сметает хвостом ветер,
разбивая в куски зеркала света.
Когда плакали голые люди у стен холодных
и директор банка смотрел на манометр,
измеряющий жестокое молчанье монеты,
призрак появился на Уолл-стрите.
Ничего удивительного,
что смерть для своей пляски
выбрала этот крематорий с желтыми глазами.
Ведь сфинкс и несгораемый ящик
одинаково могут заморозить
сердце каждого голодного ребенка.
Здесь энергия машин топчет энергию природы,
совершенно не зная, что обе они родились
из света солнца.
Ведь если колесо забудет, что оно - механизм,
оно весело запоет рядом с копытами лошадей;
а если пламя растопит лед проектов,
небу придется бежать от живого сияния окон.
Нет, уверяю вас, смерть выбрала хорошее место
для своей пляски.
Призрак будет плясать среди потоков крови,
в ураганах золота, между колоннами цифр,
под стон безработных,
что воют безлунной ночью.
О Америка, дикая, бесстыдная, злая,
распростертая на границе снегов!
Призрак! Взгляните - призрак!
Волны тины и грязи ползут над Нью-Йорком!
***
Я стоял на балконе, сражаясь с луной.
Целые стаи окон впивались зубами в лицо ночи.
Облака пили сок моих глаз, как телята.
И длинными веслами ветер
бил в покрытые пеплом стекла Бродвея.
Капля крови засохла на ветке луны,
похожая на мертвый цветок яблони,
пастухи пригнали ветер равнины,
и он дрожал раздавленной медузой.
Нет, это не мертвые пляшут в пляске смерти.
Нет, я уверен.
Мертвые тихо лежат и грызут свои пальцы.
Это те, другие, пляшут под звуки скрипки,
на которой играет смерть-призрак.
Те, другие, опьяневшие от серебра,
холодные люди,
вырастающие на перекрестке голых ног
и огней колючих,
ищущие червей в панорамах лестниц,
пьющие в своих банках слезы девочек мертвых,
жрущие на углах осколки зари небесной.
Хватит плясать, Папа!
Довольно, хватит плясать, Папа!
Довольно плясать, Король!
Довольно плясать, миллионеры
с голубыми зубами,
тощие балерины в колоколах соборов,
собиратели изумрудов, безумцы и содомиты!
Ведь с вами пляшет только один призрак,
только старый призрак в кровавых лохмотьях,
только,
только призрак!
Знайте, кобры будут шипеть на последних
этажах небоскребов,
чертополох и крапива будут дрожать
на улицах и балконах,
биржа превратится в груду камней,
поросших мохом,
придут лианы вслед за огнем ружей,
и очень скоро, очень скоро, очень скоро,
о Уолл-стрит!
Призрак! Смотрите - призрак!
Как он плюется ядом трав ядовитых
в бесформенное лицо Нью-Йорка!