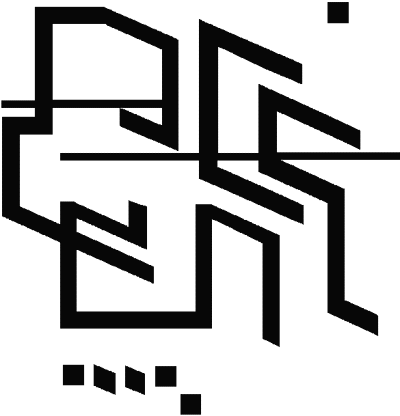
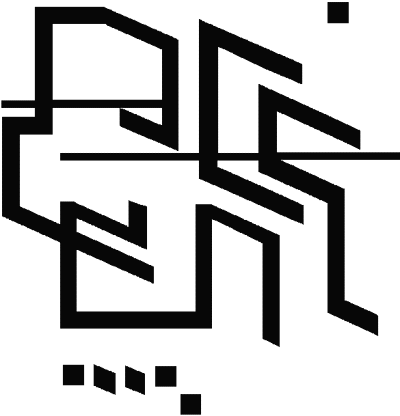 |
Лингвистические эксперименты (Лэ) |
Лэ о Безыменности
Восхищались, немели, плакали.
Любили…
Но уходишь. Смотрю. Не плачешь и не
мечешься. Молчишь. Не объясняешь и не
оправдываешься. Молчишь.
Смотрю. Одеваешься. Не оборачиваешься
и не целуешь. Одеваешься.
Уходишь.
Жду. Не возвращаешься. Жду. Не
приходишь. Жду. Не сдаюсь и верю.
Спускаюсь. Вижу — снежит, заметает.
Иду. Скриплю и кашляю. Укутываюсь. Сажусь.
Мерзну. Но хочу видеть. Дрожу. Дрожу —
вот как хочу видеть.
Спускаешься. Не замечаешь или не
хочешь замечать? Подъезжает — улыбаешься,
садишься и целуешь.
Уезжаете.
Улыбаюсь. Встаю, едва не падаю. Плетусь.
Кутаюсь. Кашляю и замерзаю. Поднимаюсь. Сажусь. Не
понимаю, ищу и не нахожу. Почти плачу. Почти
мечусь.
Молчу. Вижу — снежит. Оборачиваюсь —
не приходишь. Смеюсь: повсюду снежит. Падаю,
зарываюсь, сжимаюсь. Мечусь.
Успокаиваюсь. Смотрю — снежит.
Выглядываю: катаются и смеются. Прогуливаются. Не
понимаю и плачу. Сажусь и жду. Не приходишь.
И вдруг — нахожу и
понимаю…
Не верю…
Нахожу и понимаю!
Не верю!!
Понимаю.
Не придешь.
Лэ о Законе
«Я в городе, Мут. Наше счастье — это
мое ожидание и твои силы. Мои силы — тебе, а твое
ожидание — мне. Вдвое терпеливее, вдвое сильнее.
И тогда — счастье, Мут. Счастье.
Твоя Лея».
Желание любимой — закон. Разлука —
тоже закон. Какой из них мнимый? Это ненужный
вопрос.
Пески. Высокое алое солнце. Сухое горло
и кровавые губы.
«Я в городе, Мут. Наше счастье — это мое
ожидание и твои силы…»
Солнце все алее. Горло все суше, а губы
— так же в крови. В руках лишь надежда, а фляга
пуста.
«Мои силы — тебе, а твое ожидание —
мне…»
Ноги как камни. Глаза как раны. Сердце
как птица.
«Вдвое терпеливее, вдвое сильнее…»
Где этот город? Где та земля? Чьи эти
звезды? Которая ночь? Ночь без любимой — парус
без ветра. Сколько ж ночей? Сколько парусов в
бухте Каира.
«И тогда — счастье, Мут. Счастье…»
Улицы города, тычки миролюбивых
прохожих.
— Оборванец, почему ты так молод?
— В шестнадцать определенные
трудности с появлением седины…
Голос ее. И глаза ее. И сама — она. «Твоя
Лея».
— Мут?
Ноги как камни. Глаза как раны. Сердце
как птица.
— Лея…
Касания прочь. Пока.
Дом, горячие травы. Все, как положено в
книгах.
Взгляды. И руки. Но он слишком слаб.
— Слуги все прочь! Я сама как служанка.
Что ж? В шестнадцать беспомощна в исполнении
желаний любимого? Голод, ты здесь? Силы, вас нет?
Эта ночь — наша первая. Нам нужно счастья!
Стол из пятнадцати блюд — видны
старания Леи.
Желание любимой — закон…
Вновь Мут силен, и это их первая ночь.
Им нужно счастье.
Грустная, звонкая ночь. Светлые, зыбкие
звезды. Нежные звуки умерших деревьев.
На белой постели ее гибкое тело. И
грудь открыта, как весенний лотос, и глаза
прекрасны в ожидании смерти. Вот руки, вот губы,
вот губы, вот руки. Где ветви, где листья, где
ласковый ветер? Понимание трудно, подчас
невозможно.
И крик. Это птица в полете? Нет, то
звезда из созвездия Струн. Какой–то из них
больше нет, но как восхитительна ее последняя
песня!
— О, Мут…
— О, Лея…
— Счастье так нежно…
— Его больше нет?
— Завтра, наверное. Завтра. Правда, что
нынче и смерть не страшна нам?
— Правда.
Их сон — это радость новых надежд.
Смерть после смерти и вечность мгновенья. Каждый
их вдох — это память, каждый их выдох — музыка
счастья.
Но сон Мута скоротечен. Птицы утра, вы
райские птицы? Нет, и вдруг людские дыхания, как
ваши полеты, не одинаковы. Это не новая смерть, не
настоящая, и не предсмертные хрипы — это мысли.
Впервые юноша — в жестокой паутине мыслей. И мир
изменен, он многогранен и груб, в нем не только
любовь, но и что–то другое.
Дом, сад, теплые руки любимой. Достоин
ли Мут этих высот? Резкий прыжок на больные ноги,
взгляд на лицо расцветающей девушки. Из дому, по
пустынному городу, на неродные холмы. Там, за
песками, незнакомые города: Дамаск, Тифлис и
Багдад, — философы и мудрецы, поэты и музыканты.
Бедный бродяга, доступна ли мысль о величии твоей
голове?
Шаг сделан, остановка уже невозможна.
Лея… Жалость к себе и тоска. Тоска как
болезнь или смерть. Или — тоска как закон?
Решение в сердце. Решимость в глазах.
Встречному каравану письмо. Другой караван —
уходящий.
«Наше счастье — это твое ожидание и
мои силы. Год? Два? Но следующий Мут — это Мут,
достойный Леи. Желанья твои — закон? Пожелай мне
вернуться. Таким, каким я хочу».
Лэ о Тридцати «нет» и одном «да»
На море небольшие невысокие волны. Я
не хочу думать, что уеду отсюда. Наверное, даже и
не думаю.
Потом, потом будет невозможно не
думать, не хотеть думать. О том, что я был здесь
счастлив, — нет, не я, а кто–то другой,
неразговорчивый, невеселый.
Пока же мне неловко. Ведь не было
увлечения, взрыва, которого так хотелось вдалеке
отсюда. Не было необычной любви, незабываемых
вечеров. И все–таки каждый вечер казался
незабываемым и необычным. Наедине не с кем–то, но
с морем, широким, как жизнь, грустным, как
вечность.
С одной стороны, мне неплохо. Ни о ком
не сожалею, никого не покидаю.
Беда в том, что и там, далеко, меня,
уезжающего отсюда, никто не ждет. А может, это и не
беда?
Только там нет моря.
Лэ о Приближении
Они приехали в Гурзуф на день раньше
меня, уже потревожили море, облюбовали одно из
многочисленных кафе. Ночной город был тих —
только при выходе на набережную вы попадали в
ослепительный фейерверк огней, в поток сменяющих
друг друга музык, — попадали, терялись, кричали
сквозь шум, смотрели на море, на тускло
переливающиеся в темноте волны.
Они любовались морем, уходили в
городской парк с бюстами русских писателей в
советском стиле, там отдыхали от шума. Я
чувствовал их: они были близки моему настроению,
похожи на меня, наблюдавшего за ними,
завидовавшего им.
В ней что–то было, а может быть, и
наоборот — чего–то не было. На даче Чехова мы
вдруг встретились, и я посмотрел ей в глаза.
Всегда интересно украдкой или открыто наблюдать
чем–то примечательное женское лицо, а потом
ждать повторного любопытного немого вопроса. Но
в последнее время я редко делал это, устав не от
некрасивых, а от немилых лиц.
Высокая до неуклюжести и неуклюжая до
грациозности, она не отвернулась, но и не
проявила любопытства. Она тоже рассматривала
меня.
Наша маленькая группа подошла к
перилам у бухты в скалах, и мы улыбнулись волнам,
ударяющим в камень, и еще раз удивились красоте
купленного Чеховым участка. А потом вдруг она
повернулась ко мне и спросила, не знаю ли я вид
дерева, раскинувшегося слева над перилами. К
счастью, я знал это дерево и даже сказал его
название. Потом осторожно посмотрел на ее
сопровождающего — он же был не менее мил, чем она,
восторгался сущими пустяками, не замечая ничего
вокруг. Она захотела попробовать щетинистый плод
платана, но я посоветовал ей не делать этого.
Знакомства на юге случаются быстро. Я
подошел к их столику в кафе, я все узнал о них.
Глупости! Конечно, не женаты. Конечно,
хотели бы познакомиться. Филолог? Чеховед? А чем
занимаются чеховеды? (Сказал бы я, чем занимаются
чеховеды…). Надолго? Скоро в Ялту? Жаль. Отдыхаем.
Да, дикарями. Из Питера. Море? Чудесно! Люда —
медсестра, Саша — безработный, но любим своими
родителями. Знакомы с детства. Люда на год старше.
Непохоже? (Смех). На море первый раз, не считая
Балтийского. Вы тоже?
Я провожал их по парку с советской
скульптурой. Мы поднялись к гурзуфскому
кинотеатру и попрощались. Меня ждал Чехов, но в
этот вечер, по–моему, в низенькой покатой
комнатушке я становился тургеневедом высшей
литературно–некритической степени.
У меня в запасе была еще неделя.
В шесть часов утра я встречал рассвет. Я плыл по
блестящей золотой дорожке навстречу источающему
ее солнцу. Потом сидел на гальке, смотрел на море.
Балл — не больше. Волны словно тянулись к ногам, и
там, где ты даже не ждал их, достигали тебя и грели
соленым теплом. Затем откатывались, тащили за
собой гальку, наверное, с треском гремучей змеи и
исчезали, умирая, под следующим гребнем. Наплыв —
отошла, наплыв — отошла, все ближе и ближе, все
дальше и дальше: бесконечное движение,
бесконечное приближение и бесконечная разлука. А
солнце грело плохо, изредка, я крутил в руке
отполированный камень и бросал его в волну,
всегда очень недалеко, хотя и изо всех сил.
Пришли они. Поздоровались, потрогали
воду. Саша плыть отказался, Люда посмотрела на
меня, и я не отвернулся. Она скинула платье и
поплыла, ничего не сказав. Я подождал реакции
Саши — ноль реакции. Залезать в воду второй раз
не хотелось, но что–то обязывало. Тем более — она
обернулась и насмешливо помахала рукой. Больше
на Сашу я старался не смотреть и бросился
вдогонку. Люда плавала лучше, и ей пришлось
подождать меня.
— Почему не по дорожке? — пропыхтел я.
— А зачем? — рассмеялась она в ответ.
Я не смог ответить зачем и молча поплыл
за ней. Люда то останавливалась, то отрывалась от
меня далеко вперед. Она показывала мне на
туманную гору за Ай–Данилем, на медуз под нами и
рассказывала. Как училась плавать, как Саша
пригласил ее на море, как ей не нравится ее
работа.
— Мы пришли, а вы смотрели на волны и
думали, — заметила она. — О чем?
Мне захотелось сказать ей что–нибудь
приятное, но сейчас это выглядело бы слишком
нелепо, как, впрочем, и любые другие слова. Я
ничего не ответил, а только кивком головы дал
понять: плыву назад.
У берега мы обнаружили барахтающегося
Сашу. Он все–таки решил пуститься за нами —
пустился, но тут же притормозил, плавая кругами
недалеко от захода в воду. Втроем мы очень весело
стали выбираться: Люда вытолкнула с волной
своего друга, и та же волна захватила ее и мягко
бросила в мои руки. Я почувствовал ее мокрую кожу,
запах ее мокрых волос, и море секунду отдавало ее
мне, протягивая и настаивая, словно я
отказывался. Я не отказывался и делал вид, что
помогаю не утонуть, но больше всего мне бы
хотелось в этот момент, чтобы Люда взглянула на
меня и не отвернулась.
Наконец, мы выбрались на берег. Я себя
чувствовал смущенным, потому что она не глядела
на меня, убирая глаза вниз. О Саше я вспомнил
только по пути с пляжа: он был замкнут, тих, на все
вопросы отвечал со сдержанной улыбкой. Думая
позже об утренних приключениях, я уже становился
чуть–чуть и лермонтоведом.
— Саша заболел, — сообщила мне Люда
вечером, — ведь он из–за меня решил поехать
дикарями. Боялся, что в санатории мне будет
скучно.
Я хотел навестить его, но Люда сказала,
что его поместили через необходимые в этом деле
связи в военный госпиталь министерства обороны.
Вход туда охранялся.
— Ерунда, — заметил я и повел ее
окольными тропами. Недавно я случайно забрел к
этому красивейшему зданию и фонтану перед ним и
сфотографировался на память. Я отлично помнил
свой вчерашний путь, и вскоре мы оказались на
месте.
На наше счастье, отдыхающий Саша сидел
на балкончике четвертого этажа. Он знаками
показал нам: не разговаривать, ему не спуститься,
не знаю, что делать. Мы ответили: напиши записку.
Через минуту с балкона вылетел белый комочек
«Люда! Тебя устроить сюда же не
удастся. Меня навестить сможешь только завтра.
Деньги в правом кармане моей сумки в записной
книжке. Извини, просто снова осложнение. Позвоню
через час, будь у тети Шуры. Целую».
Я не видел его огорчения или радости по
поводу моего прихода: он только дружески махнул
мне. Люда кивнула ему в ответ, и я проводил ее
домой. У домика тети Шуры я лишь сказал, что она
может располагать мною, как захочет. Она
посмотрела мне в глаза и не отвернулась.
Я ощущал свою зависимость от нее. Мне
приятно было думать о ней вечером, потому что
прошел день рядом с ней, я вспоминал о ней утром,
потому что и этот день надеялся провести так же.
На следующее утро мы снова плыли
вместе, и я предложил днем пробраться на один из
тихих санаторных пляжей, которые хоть как–то
были защищены от нудистов, завоевавших все
побережье.
Был ли забыт Саша? Нет, по–моему, мы
только о нем и говорили. Я не знал серьезности их
отношений, но эти разговоры явно не шли им на
пользу. Мы яростно и открыто сожалели о
случившемся, яростно и отрыто отдаляя его от
себя.
Позже. Солнце стояло высоко, и небо
было чисто. Мы шли по пыльным виноградникам в
сторону от Аю–Дага, то перелезая через арматуру
и бетон, то пробираясь сквозь колючие кусты, то
находя тропы в зарослях высоких камышей. Вскоре
показался «Ай–Даниль». В его ограде зияла дыра
постсоветской величины, а крайний левый пляж у
последнего волнореза оказался совершенно
пустынным…
Тихо. Лишь плещутся волны, и они идут к
нам, и они приближают нас друг к другу.
— Я впервые узнал, что такое сила
природы здесь, — откровенно говорю я. — Я всегда
думал, что человек обязан и в силах бороться с
ветром, солнцем и чувствовать себя человеком,
только побеждая их. Но отплыви в море на
пятьдесят метров от берега, оглянись назад — и ты
ощутишь страх, что не вернешься, что у тебя не
хватит сил и выносливости.
— А иногда так заманчиво смирить свою
волю, — подхватывает Люда, — и остановиться.
Перестать барахтаться, следить, чтобы барахтанье
было красивым. Устать от всего, от себя, от людей.
Закрыть глаза и отдохнуть.
— Зачем же тогда жить, Люда? — тихо
спрашиваю я.
Она с улыбкой смотрит на меня.
— А зачем движется море, а зачем этот
огромный медведь, — она показывает на Аю–Даг, —
всю свою жизнь смотрит вдаль?
— Вы фаталистка, — привычным
движением мысли приклеиваю ярлык я.
— Во что–то же нужно верить, —
замечает она.
— Верить? Вы думаете, фатализм — это
вера? Вера — это то, что поднимает, возвышает, —
отвечаю я. — Да, все пройдет, несмотря на наши
усилия дать вещам и душам бессмертие, и только
здесь, на земле, в гармонии природы и
непреложности судьбы можно найти свой,
устойчивый интерес. Но, по–моему, нужна какая–то
зацепка, идея, дело, которое было бы нужно.
— Нужно кому?
— Хотя бы двоим, хотя бы одному. То, о
чем он или они будут постоянно думать. Везде и
всюду. То, о чем напомнит море, солнце и звезды,
книги и другие люди.
— Пусть будет так, — соглашается она,
— что же это может быть? Для вас например.
— Я не знаю, — признаюсь я, — только я
уже давно ищу ответ на этот вопрос. Иногда думаю,
что это любовь. Но от любви устаешь — слишком
редко совпадают человеческие миры. Но даже если
они не совпадут, то есть нечто, чему нельзя не
поклоняться, — вечность. Не та банальная
вечность, которая превращает в бессмыслицу
человеческое существование. Само ощущение
вечности, ее энергия, сильная не столько
всепоглощением, сколько неизбежностью
собственной гибели. Такой гибели, по сравнению с
которой смерть человека ничто. Никакая вечность
не вечна, и понимание этого приводит к страшным
догадкам не о ненужности жизни, а о нужности
исчезновения. И тогда удивительно понятными и
очищающими становятся разлуки, холод
разрушающей душу осени, а затем и мертвой зимы.
Любая грусть, предназначенная судьбой,
превращается в осознание себя и бога, и так, по
капельке, жизнь не уходит из нас, а только
начинает вливаться.
Она сидит и смотрит на море, убаюканная
моим длинным рассуждением.
— Я не все поняла из того, что вы
сказали, — говорит после паузы Люда. — Ваши слова
подсказаны морем. Я чувствую их, как его, но,
видимо, мне очень мало дано понять.
— Чувствовать почти что верить, —
замечаю я и зову ее в воду…
Мы много смеялись, Люда рассказывала
мне о новеллах Лоуренса. Ей казалось, что вокруг
— Лоуренсовское солнце, что она сама своей
родинкой на шее стала созвучна этому солнцу и
когда–нибудь у нее будет ребенок, здоровый,
счастливый и солнечный. Когда, устав, мы вышли на
берег, я взял Людино полотенце, накинул его ей на
плечи и решительно обнял ее. Я вытирал капельки с
ее мокрого лица, дотрагиваясь губами до ее щеки и
чувствуя, что щека солона.
— Безграничная соль, — прошептал я.
— Безграничная грусть, — ответила она.
— Безграничная ты, — прошептал я.
— Безграничная я, — ответила она.
Мы засмеялись, но уже нехотя, боясь
потерять нашу грусть, нашу нежность, боясь не
услышать осторожное дыхание друг друга. Так
дышит море, когда оно спит. Так дышит солнце,
когда его нет.
Нужно было идти. Невдалеке показалась
медсестра, проверяющая санаторные книжки, и мы
тихо скрылись в направлении Гурзуфа.
В шесть Саша назначил встречу.
— Ты не ходи, пожалуйста, — попросила
Люда. — Пусть он не видит нас вместе.
Я не возмутился. Я уже знал, что между
ними нет ничего серьезного: просто симпатия,
долгая дружба. Может быть, с его стороны…лучше не
загадывать.
А утром Люда опоздала на наше купание.
Я уже собирался пойти к тете Шуре узнавать, в чем
дело, как увидел ее. По ней я понял, что она идет не
купаться.
— Что случилось?
— Беда, — быстро проговорила Люда, —
Саше хуже.
Она кинулась ко мне и вжалась в плечо.
— Все из–за меня, понимаешь. Ведь
вчера он сказал, что любит меня. Если бы ты видел,
чего это ему стоило. Он же совсем без сил, каждую
минуту кашляет, задыхается.
— А ты? — я отстранил ее от себя и
заглянул в большие светлые слезы.
— Я сказала ему про нас, — растерянно
выдохнула Люда. — Он не поверил. Я не поняла,
плакал он или смеялся. Он сказал, что в этой жизни
все несправедливо: кто–то ждет годы и
проигрывает, а кто–то приходит на день и
забирает чужое счастье. А сейчас звонили из
госпиталя: ночью его состояние резко ухудшилось.
Его увезли в Симферополь. Я еду через час за ним.
Она увидела, что больше объяснять
ничего не нужно. Я сел на камень. Он обжег меня
холодом. Холод пронзал меня насквозь. Но камень
теплел. Он привыкал ко мне, становился таким, как
я. И я стал таким, как он.
Люда села ко мне и прижалась ко мне.
— Я должна ехать за ним. Я очень перед
ним виновата...
Я поцеловал ее: «Пойдем в море».
Мы плыли долго, не зная, за кого
бояться. Но она не отплывала от меня, и я понял,
что бояться нужно за меня. Мы плыли, как я хотел, —
по солнечной дорожке. Мы кричали, как могли, от
ставшей холодной воды и плыли.
Медвежья голова, казалось, была уже
совсем рядом, почти на уровне наших рук.
«Нам пора», — сказала Люда, и я
послушно поплыл обратно. Мне хотелось сказать: «Я
устал», — по–детски просто, по–детски
обреченно, но я, как мог, напрягал свои руки,
потому что моя жизнь принадлежала уже не мне.
Наконец, мы приплыли, оба выбившись из
сил, но зная, что будет. Я медленно и тщательно
стер воду с ее тела, Люда накинула платье. Я
поцеловал ее голую руку в плечо и еле–еле
притронулся к жестким соленым губам.
«Мне пора. Не ищи меня, ладно?» —
шепнула Люда и пошла. Я глядел ей вслед. Ни она, ни
я не надеялись вновь увидеть друг друга.
Назавтра я опять пришел на дачу Чехова.
Я стоял у перил, украдкой разгрыз щетинистый плод
платана и смотрел на волны внизу. Море жило своей
жизнью, трехбалльные толщи воды бились о камень,
отползали и снова бились.
А я думал, что, наверное, в очередной
раз был не прав. Мне стали обидны Сашины слова о
том, что он ждал Люду всю жизнь, а я захотел за
один миг ее отобрать. Во–первых, никто никого не
отбирал, а во–вторых, не я ли ждал ее всю жизнь,
чтобы нелепо и вдруг потерять?
И ничто уже не казалось фатальным,
когда я искал машину до Симферополя, пока меня не
поймал ужасного вида водитель, вручивший белый
когда–то комочек. Там жило маленькое существо:
«Я не могу без тебя. Люда».
Арсеньев Р. Без оправданий: Стихи и проза о любви.— Вологда: Стрекоза, 2000 |
© Стрекоза, 2000 © Р. Арсеньев, текст, 2000 © Е. Филин, графика, 2000 |