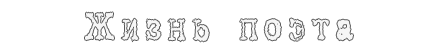
|
Суховский В. Н. / В. Н. Суховский // Беседы о духовности с великими и выдающимися людьми эпохи / В. Н. Суховский. – М., 2009. – С. 166-177.
Впервые Импульс к зимней встрече с Николаем Рубцовым в конце 1969 года был дан в дружеском застолье с моим дальним родственником Николаем Богомоловым, курсантом Архангельского мореходного училища. Когда курсанты запели песню о море, от соседнего столика подошел невысокий, худощавый, лысеющий человек с пронзительным взглядом темно-карих глаз. Он взял у одного из курсантов гитару и, неплохо играя на ней, начал подпевать. Потом он рассказывал о матросской юности в Архангельске, читал и напевал стихи о морской службе, дружбе, сказал, что под гармошку получилось бы лучше. Когда мы с ним оказались ближе друг к другу в застолье, я прочитал несколько своих стихотворений, достал из кармана листочки со стихами, вырезки из газет. Рубцов нахмурился, читая мое стихотворение «Ферапонтово»: «Ну, уж против моего-то «Ферапонтова» слабо», – сказал он о первых строфах, но лицо его посветлело, и он вслух прочила концовку:
Потом и Ольга Фокина, и Римма Казакова ценили милосердие, редкое для юных поэтов, но первое доброе слово и напутствие я услышал от выдающегося русского лирика Николая Михайловича Рубцова. Я до сих пор жалею, что не уговорил его поехать назавтра с собой в родные места, красивую долину реки с высокими холмами, хотя, когда мы говорили о конях, о тройке, глаза его загорались. Когда мы шли по морозному, заснеженному Архангельску, в небе слабо вспыхивало северное сияние. Рубцов сказал: «Похоже на зеленые цветы». Я немного тогда знал его стихов, но продекламировал две строфы, чем привел его в радость. Но он затем громко, слегка напевно прочитал все свое прекрасное, ставшее уже известным стихотворение. В голосе пробивалась горечь:
Потом вдруг Николай Михайлович сказал: «А ведь родился-то я недалеко от Архангельска, в Емецке. Вот порываюсь съездить; может, еще дом стоит, где родился. Возможно, кто семью помнит, мать.... Дорого мне все о матери, каждое слово. Представить, как жила, быт, уют налаживала. Началась судьба моя здесь, а где кончится? Вологда душе все-таки ближе. Знаю, что родился и умру зимой». Рубцов был привязан и к Архангельску. Несколько лет работал матросом на траловом флоте, была здесь и первая его юношеская любовь. Здесь выходила его первая, тоненькая, всего в 25 стихотворений книжечка «Лирика», а в год нашей встречи вышла более солидная по объему книга стихов «Душа хранит». Эту реликвию с авторской надписью я хранил, как зеницу ока, но после 3 курса пединститута неожиданно попал в армию и там при «наведении порядка» в солдафонском порыве ст. лейтенант Н. Алексеенко сжег толстую тетрадь стихов, в которой бала заложена книжка Рубцова. Оглядываясь на юношеские годы, очень жалеешь, что мало ценил время поэтического взросления и таких Божией волею поэтов, как Рубцов. Как мое поколение сбивала с толку эстрадщина, портил дурной вкус! И жалею, что поступил в Архангельский пединститут, а не в Вологодский, вдвое ближе к дому, а главное, в Вологде была более близкая по духу среда и такие корневые поэты, как Рубцов, Фокина, Романов, Викулов, Коротаев. К сожалению, по-настоящему все это понял я почти к тридцати годам. Случалось, писались и удачные стихи, а сколько было написано всякого. Вот почему стоит проследить взросление, укоренение в исконном русско-самобытном такого поэта, как Николай Рубцов. Из друзей поэта первое серьезное влияние на него оказал Глеб Горбовский, бывший как бы предтечей Литинститута. Будучи студентом, Николай представил в ноябре 1962 года на семинарское обсуждение стихи, в числе которых навеянное встречей с Горбовским стихотворение «В гостях» («Трущобный двор. Фигура на углу...»). Именно такие стихи обратили на Рубцова внимание гостя семинара Бориса Слуцкого. Он сказал: «Мне ближе всех Рубцов... Может, потому, что он старше других, а может быть и такая вещь, как талант». Похвала известного поэта очень тогда окрылила Николая. Называя в числе любимых поэтов Пушкина и Есенина, Рубцов в конце первого курса переживает настолько сильное увлечение Блоком, что у него меняется взгляд на искусство поэтического слова. Он считает, что в стихах его сокурсников нет «тайны жизни», а без нее не может быть достоверности чувств, нет поэзии. Особый отклик находит у него высказывание Блока: «Действие света и цвета освободительно. Оно улегчает душу, рождает прекрасную мысль». Сколько у Рубцова светописи и звукописи!
Или:
В. Кожинов писал, что стихия света в поэтическом мире Рубцова имеет «непосредственную эстетическую ценность». Об этом почти одновременно с Кожиновым подчеркивал в своих статьях о Рубцове Валерий Дементьев. Критик Долгополов писал позднее о влиянии Блока на современных поэтов: «И само их личное вхождение в литературу осмысливается, как путь к родной земле, как новое открытие для себя Родины». В декабре 1963 года Николай переводится на заочное отделение Литинститута и уезжает в село Никольское под Тотьмой, где прошли в детдоме его отрочество и юность. В одно лето 1964 г. он написал здесь свыше полусотни стихотворений. Широко заговорили о Рубцове после выхода в 1967 году в издательстве «Советский писатель» книги стихов «Звезда полей». Дружбой с Николаем Михайловичем дорожили весьма известные уже тогда поэты Владимир Соколов и Станислав Куняев. Блок писал о чувстве пути, а Рубцовым оно владело, властвовало над ним: «Как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле – по селам и столицам». Как он любил проселки, овеянные «сказками и былью прошедших здесь крестьянских поколений». Когда он ходил пешком по проселочным дорогам, рождались его лучшие строфы. Здесь приходило к нему чувство внутренней раскованности, вольной воли, которой, как и Блок, Рубцов дорожил больше всего. При возвращении в родные места поэта охватывал непередаваемый душевный подъем. Деревня была неотрывна от окружающей природы. Рубцов оберегал свой приют, как когда-то Клюев, Есенин и Клычков от «вокзального дыма»:
И его остережение:
Рубцов был органичен привязанности к истокам, к миру сельскому. И свет для городов видит он в звезде полей:
Для читателей все зримо, ощутимо, как близки и переживания поэта в одном из его лучших, проникновенных стихов:
Такими стихами Рубцов бесповоротно завоевывал доверие читателей. Естественно для него и концовка стихотворения:
Критики относили Рубцова к тихим лирикам, и даже к неославянофилам (В. Перцовский. Слово о поэзии Николая Рубцова, «Север», 1971, № 3). Но вырывается из рамки этих определений стихотворение «Поезд». Это настолько мощное, с глубоким подтекстом произведение, что мне, особенно слыша чтение автора, представлялась в образе поезда и страна, и, даже страшно сказать, вся планета:
Но тревожное ощущение уже остается в душе. Уже тогда поворачивали и загрязняли реки, отравляли лесохимики все живое в лесах. Города задыхались. Если за рубежом кричали об экологии, то у нас тогда только Олег Васильевич Волков, который отсидел 28 лет в лагерях и знал цену жизни, во весь голос сказал о необходимости сохранения живой природы в своей книге «Чур, заповедано!» Ну, да еще Залыгин спасал Сибирь. Потом поднялся в том, еще редком тогда стане заступников Распутин. Мне кажется, Рубцов, с его интуицией, предчувствовал нынешние крушения поездов, паромов, целых стран и блоков. Внутренний мир поэта хранил несоединимое: гроза и тишина, смятение и ленность, реализм и резкое преувеличение. В нескольких его стихах переходы от грозы к тишине и наоборот:
На образ Родины он перенес всю свою неистраченную нежность, трепетность, возвышенность, любовь сына, едва знавшего родимую мать. От мук сиротства и одиночества он надсадно восклицает:
Эта строка высечена на его могиле на тесном кладбище Вологды. Вообще, горько, что не выполнили пожелание, волю Рубцова: похоронить его в старинном Прилуцком монастыре, рядом с могилой учителя Пушкина, нежного в лирическом откровении поэта Константина Батюшкова, воскликнувшего однажды:
Сейчас этот монастырь снова действующий. И достойно было бы души Николая Рубцова, которой все мерещилось пение хора, слушать молитвенное пение и перезвон колоколов, особенно радостный на Рождество и Пасху, которые он так любил. Николай Михайлович любил поговорить с людьми, много пережившими и повидавшими. Глубок у него был интерес к истории русской провинции, уходящей в глубь веков. В стихах его память и о тысячелетней истории Отечества и острее об обездолившей его и миллионы минувшей войне, и завет будущим поколениям поэта, у которого и осталась из всех родных только Родина-мать. В стихотворении «Русский огонек» потрясающе точно, достоверно передано ощущение обреченности и одновременно надежды в образе старухи, в ее словах, которые сегодня звучат особенно злободневно:
Поэт, а за ним читатель, погружается в бездну всенародной печали нескончаемого эха войны. Думал ли кто тогда, что война вновь заполыхает у границ страны, а потом и в самой России, что снова будут рыдать по сыновьям матери, по мужьям жены, по отцам дети. Весной 1969 года сборником «Звезда полей» Рубцов защитил дипломную работу в Литинституте на «отлично». Талант его рвался в зенит, но в личной жизни он был страшно одинок. В это время в его судьбе происходят два события: впервые в жизни он получил, наконец, квартиру в доме на тихой вологодской улице, в то же время началась его трагическая привязанность к женщине, которая и оборвет тонкую струну, как она сама напишет об этом: «И пальцы на певческом горле сошлись». Рубцов был отзывчив на доброе слово, лицо его светлело при доброжелательстве. Он внутренне озарялся, светился изнутри при чтении или напевании стихов. В такие часы Николай становился лучшим собеседником и другом. Но мог быть едко ироничным и резким, если замечал в собеседнике самолюбование при легковесном отношении к близким, друзьям, народу, малой родине, русской истории. Высшим мерилом для поэта была нравственная и духовная глубина. Он не терпел, не выносил голого практицизма, потребительства:
Ощущение катастрофы в личной судьбе росло и от того, что, наконец, был дом, а семьи не было, не было настоящей любви. В семидесятом году он пишет предисловие к сборнику Грановской и почти в то же время у него вырывается:
Предугадан день и предсказано состояние природы. В ночь с 18 на 19 января 1971 года жизнь поэта трагически оборвалась. А виновницу гибели я знал еще раньше, чем встретился с самим Рубцовым. В сентябре 1966 года появляются в вельской газете мои стихи и меня избирают в совет литобъединения. Постарше меня, но самой молодой среди других была там Людмила Грановская, весьма обаятельная женщина с ангельским голосом, призывной фигурой. Ничто не отпугивало, даже глаза, о которых она писала: «Рысьи мои глаза», а о душе: «Душа от глубины своей темна». Надо отдать должное: уже в первом сборнике Людмилы Грановской был зримо виден ее талант, хотя и трудно сравнимый с рубцовским, но весьма самобытный по тому времени, когда косяками ходили поэты, и особенно поэтессы, перепевающие друг друга и подражающие кумирам того времени Евтушенко и Ахмадулиной. Грановская от них отличалась корневой русскостью, свежестью. В отличие от большинства друзей Рубцова я не испытываю к ней чувства мстительности, хотя и не могу простить. Искренне радовался в шестидесятых и рад сейчас ее поэтическим удачам. Помнится, на меня особое влияние и настроением и содержанием оказало стихотворение Людмилы, такое наше верховажско-вельское; родители ее были верховажские, а потом переехали в Вельск. Здесь Людмила прожила свои цветущие годы и здесь же бедовала после трагической развязки, после тюрьмы. Вернула себе девичью фамилию, стала Дербиной. Еще ничего не предвещало бури, когда писалось это стихотворение:
В покаянном произведении «Посвящение» первоначально стояли инициалы Н. Р. И всем ясно, что после трагической развязки, когда жизнь резко, в отчаянье, обиде толкнула Людмилу на непоправимое: «И пальцы на певческом горле сошлись», они два поэта, два по- своему одиноких и влюбленных, насколько глубоко, не нам судить, друг в друга человека уже неразделимы:
И все-таки Людмил Дербина предала огласке всю историю трагических отношений с поэтом. В альманахе «Дяда Ваня» и в журнале «Слово» публиковались в последние два года ее воспоминания. Когда я читал, были и несогласие по отдельным местам, и недоумение. Никто не имеет права на чью-то жизнь. Она всегда могла уйти, уехать, но не поднимать руку, тем более, что физически она была значительно крупнее и сильнее Рубцова. По-женски она пытается оправдаться, больше показать Николая Михайловича часто пьяным, вздорным, неуживчивым. Хотя и Есенин, и Рубцов столько успели создать и на таком высочайшем уровне, что я невольно на разговоры о частом их пьянстве воскликнул в своем стихотворении «Из последних встреч с Рубцовым».
Да и сама Людмила Дербина признается в стихах:
Стихи эти рекомендовал в начале декабря 1978 года в «Литературную Россию» Виктор Боков, но они там не появились, а я записал для себя. Недавно вышел сборник стихов Дербиной, не знаю, есть ли там упоминаемые мной стихи и строки. Судя по тому, какой показывается в воспоминаниях смерть, последние минуты Рубцова, Дербина изменила первоначальные показания и уже, возможно, не публикует строки, написанные в тюрьме: «И пальцы на певческом горле сошлись». Жаль, что я в свое время, понадеявшись на память, не записал часть этого откровенного стихотворения, и осталась за полтора десятка лет в памяти только последняя строка. Интересно, что мое знакомство с Виктором Боковым, переросшее потом в дружбу, началось 15 и 16 октября 1970 года в Архангельске во время работы выездного Секретариата Союза писателей России. Тогда же Сергей Орлов включил меня, служащего в армейском ансамбле, в состав писательской бригады, и я выступал вместе с лауреатами Госпремии Сергеем Орловым и Владимиром Жуковым, с редактором журнала «Север» Дмитрием Гусаровым. Тогда же произошла моя последняя встреча с Рубцовым, о которой прозой лучше, чем в стихотворении, вошедшем во вторую книгу моих стихов «Дали долинные», я сейчас не скажу. Лучше привести эти стихи целиком, как и стихотворение «Душа поэта», явившееся поэтическим откликом на гибель Рубцова. Оно было опубликовано в «Вологодском комсомольце» и в моей первой книжке стихов «Зачин». А сейчас я приведу строки прижизненного для Рубцова, написавшегося, когда я узнал, что благодаря его рецензии появились три моих стихотворения летом 1967 года в верховажской районной газете. Стихи эти я не помню, хотя при желании в подшивке газеты можно найти. И оказался тогда Николай Михайлович в Верховажье случайно: то ли сам проспал, то ли водитель забыл, и проехали они поворотку на Тотьму, где Рубцов должен был выйти. Вот последние строфы из моего стихотворения того времени о Рубцове:
Двадцать четыре года прошло после гибели поэта. Если при жизни вышли четыре тоненьких книжечки, общим тиражом 40 тысяч, то после смерти тираж книг поэта превысил 5 миллионов экземпляров. Творчество его повлияло на многих поэтов. Ему посвящали стихи Куняев и Передреев, Евтушенко и Юрий Кузнецов, Старшинов и Коротаев... О последней встрече с Рубцовым 15–16 октября 1970 года в Архангельске я написал стихотворение «Архангельск. Кафе “Золотица”». Стихи Рубцова переведены на многие языки мира. На его стихи написаны песни А. Морозовым В. Тверским Б. Емельяновым. Самый удивительный случай произошел с Александром Лобзовым: капитан милиции, открыв для души удивительную поэзию Рубцова, бросил службу и написал десятки проникновенных песен на его стихи. Вместе с певцом Николаем Тюриным они стали первыми проводниками, доносящими песенное слово Рубцова широко в народ.
Звезда полей Николая Рубцова негасимо светит. Сколько душ отогрел этот
дивный свет! |