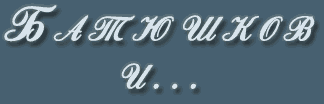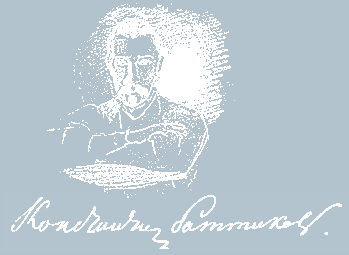
Титульный
лист |
А. Л. Зорин
|
||||
|
Трудно сказать, в какой мере, развивая это со-противопоставление двух поэтов, Белинский сознавал, что идет в русле традиции, начало которой было положено человеком, чье имя было для критика вполне одиозным – министром народного просвещения С.С. Уваровым. В 1817 г., рецензируя батюшковские «Опыты в стихах и прозе», Уваров впервые провел ставшую впоследствии хрестоматийной параллель: «Жуковский, напитанный чтением Английских и Немецких писателей, сделался нашим Скоттом, лордом Байроном и Гёте, а Батюшков, страстный любитель Итальянской и Французской поэзии, подражает тому, что есть moile atque facetum* [нежного и изящного] в первой и тем разительным прелестям, которыми существенно отличается последняя <...> Один есть поэт севера, другой юга» [2] [Вестник Европы, 1817. Ч. 96. С. 206. Французский оригинал статьи Уварова появился а петербургской газете Le Conservateur Impartial (1817. № 83).]. Можно заметить, что Уваров подогнал факты под схему. В рецензируемых им «Опытах...» Батюшкова достаточно произведений, навеянных северной культурой и историей. Назовем хотя бы элегию «На развалинах замка в Швеции» – перевод стихотворения немецкого поэта Ф. Маттисона или очерк «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии». Да и в программной элегии Батюшкова «Мечта» в сонме великих поэтов рядом с Анакреоном и Горацием возникают Оссиан и северный скальд. Кроме того, сама по себе проведенная Уваровым дихотомия тоже не была безусловно оригинальной – он лишь приложил к русскому материалу концепцию северной и южной литературы, разработанную де Сталь в ее прославленном трактате «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями». И все же в разграничении полей культурного тяготения Батюшкова и Жуковского есть очевидные резоны. Батюшков и сам неоднократно указывал на Италию как на свою духовную родину и источник поэтического вдохновения. «Извини, что я сержусь на русский народ и его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово – то блаженство» [3] [Батюшков К.Н. Сочинения. М., 1989. Т. II. С. 198. Дальнейшие цитаты по этому изданию в тексте статьи.], – писал он Гнедичу в 1811 г., а шестью годами позже признавался Вяземскому: «Чем более вникаю в италианскую словесность, тем более открываю в ней сокровищ истинно классических, испытанных веками» (т. II, с. 424). В этом же письме Батюшков как бы противопоставлял итальянской литературе немецкую. «Но и согласен с тобою насчет Жук<овского>. К чему переводы немецкие? Добро философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы, их собственно литературы, то я начинаю презирать ее. <...> У них все каряченье и судороги. Право, хорошего немного». Неудивительно, что при таких взглядах стремление самому вдохнуть «чистый воздух» благословенной страны владело Батюшковым всю его жизнь с ранней юности. «Я всем буду доволен; имею в виду одно: Италию. В этом слове заключается для меня многое: независимость, здоровье, стихи и проза» (т. II, с. 496), – писал поэт в июне 1818 г. А.И. Тургеневу, хлопотавшему о месте для него в неаполитанской миссии. И даже крайне неудачное пребывание в Италии не избавило Батюшкова от этой мечты. Уже в 1828 г. под гнетом душевной болезни на пути из психиатрической больницы в Зонненштайне в Москву он, по сохраненному Д. В. Дашковым свидетельству врача, «с синего безоблачного неба не сводил глаз и повторял ежеминутно: «Patria di Dante, patria d'Ariosto, patria del Tasso, о cara patria mia, son pittore anche io» [4] [Батюшков К.Н. Сочинения. Пб., 1887. Т. I. С. 332.] * [Родина Данте, родина Ариосто, родина Тассо, моя дорогая родина, я тоже художник (ит.)]. Добавим, что последняя часть этой тирады воспроизводит знаменитые слова Корреджио, художника, особенно высоко ценимого Батюшковым. Все эти свидетельства, казалось бы, побуждают принять точку зрения Уварова и Белинского и отвести теме «Батюшков и Германия» сугубо локальное, узкобиографическое значение. Однако исключительное обилие немецких параллелей всем «италофильским» высказываниям Батюшкова заставляет отказаться от такого подхода. «Вот уже несколько лет, как я не мог читать латинских писателей, не мог вообще прикоснуться к чему-нибудь такому, что возродило бы во мне образ Италии, не испытывая самых страшных мучений <...> Если бы я не принял этого решения (поехать в Италию. – А.З.), я бы погиб и был бы неспособен к чему бы то ни было, такой зрелости достигло в душе моей вожделение увидеть все эти предметы собственными глазами» [5] [Goethe's Briefe an Charlotte von Stein, lena, 1908. B. III. S. 114. Tagebuch der ital-ienischen Reise, 9-ct. 1786. Ср.: Жирмунский В.М. Стихотворения Гёте и Байрона «Ты знаешь край» // Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л., 1979. С. 413-414.], – этих слов из «Дневника итальянского путешествия» Гёте Батюшков не знал, так как они были опубликованы в пору его душевной болезни. В то же время он мог читать «Тоску по Италии» Вакенродера-Тика, должен был читать изобилующие подобными суждениями «Антона Райзера» и «Путешествие немца по Италии» К.Ф. Морица, наконец, безусловно читал (об этом речь ниже) гётевскую «Миньону». Дело, однако, не в установлении прямых источников тех или иных мыслей Батюшкова. Общая «тоска по Италии», роднившая русского поэта с его старшими современниками в Германии, была порождена едиными историко-культурными установками. Как хорошо известно, свой культ античности Батюшков вынес из так называемого оленинского кружка, художественную ориентацию которого Б.В. Томашевский определил как «русский ампир» – неоклассицизм на основе преромантической чувствительности [6] [Томашевский Б.В. К.Н. Батюшков // Батюшков К.Н. Стихотворения. М.; Л., 1948. С. XXVI.]. Существенно при этом, что основатель и вдохновитель этого кружка Алексей Николаевич Оленин свое эстетическое воспитание получил в Дрездене. «Еще в Дрездене Алексей Николаевич изучал в королевской библиотеке сочинения об истории и древностях. Изящные произведения ваяния, живописи и архитектуры, по собственным словам Оленина, с юных лет его сильно на него действовали, а упражнение в рисовании было его любимым занятием» [7] [Стояновский А. Очерк жизни А.Н. Оленина. Пб., 1886. С. 3.], – пишет держатель архива Оленина и его биограф А. Стояновский. Дрезден с его богатейшей в Европе художественной галереей был, по словам Винкельмана, «Афинами для художников» [8] [Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре // Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М.; Л., 1935. С. 36.]. Именно здесь формировались вкусы и взгляды самого Винкельмана до отъезда в Италию, здесь публиковались его присылаемые из Италии труды, и отсюда распространилась по всей Европе его слава, достигшая к первой половине 1780-х годов, времени пребывания Оленина в Дрездене, своего апогея [9] [См.: Hatfield /. Winckelman and his German Critics. A Prelude to the Classical Age. N.Y., 1943.]. В 1814 г. в очерке «Прогулка в Академию художеств» Батюшков, сетуя на неразработанность русской художественной терминологии, замечал: «У нас еще не было своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана» (т. I, с. 92–93). Тем не менее, своя кандидатура на роль русского Менгса и Винкельмана у Батюшкова была. Тремя годами позже, поздравляя Оленина с назначением на должность президента Академии художеств, поэт восхищался тем, что его адресат «...Еще находит время / В снегах отечества лелеять знобких муз, / Лишь для добра живет и дышит / И, к сим прибавьте чудесам, / Как Менгс рисует сам, / Как Винкельман красноречивый – пишет» (т. II, с. 444). Действительно, Оленин во многом стремился подражать Винкельману. Огромное место в его частной переписке занимают подробные археологические описания разного рода древностей, сопровождавшиеся зарисовками и чертежами. Причем, будучи, в отличие от Винкельмана, «разъезжать не охотником» [10] [Оленин А.Н. Письмо к К.Н. Батюшкову от 10.Х1.1818. Центральный гос. архив Октябрьской революции (ЦГАОР). Ф. 273. Оп. 1, е.х. 1161. Л. 9.], Оленин нередко осуществлял свои изыскания по материалам, собранным другими [11] [См.: Оленин А.Н. Опыт о приделках к древней статуе Купидона. Пб., 1815. Археологические письма к Н.И. Гнедичу. Пб., 1872 и др.]. Особый интерес вызывали у него, естественно, прославленные Винкельманом находки Помпеи и Геркуланума. «Прошу убедительно узнать в Неаполе, – писал он в памятке, врученной Батюшкову перед отъездом в Италию, – можно ли иметь верные и подробные рисунки, то есть les desseins au trois des differents armes antiques, vue de face, de profile, et par derriere avec leur coupes et plans* [Эскизы разного античного оружия в трех планах: спереди, сбоку и сзади с их сечениями и поверхностями (фр.)] с древних всех военных оружий, найденных в Помпее, в Геркулануме, в древних гробах в Nole и в других местах. Также рисунки со всякого домашнего древнего скарба и орудий, равным образом вернейшие копии в малом виде водяными красками с некоторых живописных Геркуланумских картин по назначению, а равным образом, можно ли иметь гипсовые слепки с разных найденных в Геркулануме статуй» [12] [ЦГАОР. Ф. 273. Оп. 1, е.х. 1161. Л. 11 об.]. Обладая интересами и пристрастиями Винкельмана, но лишенный его страсти к путешествиям, Оленин пытался удовлетворить свое любопытство за счет подчиненных. Живший в Неаполе художник Сильвестр Щедрин в своих письмах домой возмущался, что его, «ландшафтного живописца», президент Академии заставляет «срисовывать помпейские кастрюльки» [13] [Щедрин С.Ф. Письма из Италии. М.; Л., 1933. С. 132.]. Однако Оленин не только ориентировался на Винкельмана в своих античных археологических увлечениях, он прививал вкус к работам немецкого мыслителя своим последователям и единомышленникам. Записные книжки его ближайшего сотрудника и лучшего друга Батюшкова Н.И. Гнедича пестрят выписками из Винкельмана [14] [Тиханов П.Н. Н.И. Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам. Пб., 1884. С. 55, 73 и др.]. В статье «Письмо к Б<атюшкову> «О статуе Мира»«, посвященной произведению А. Кановы, стремившегося воплотить винкельмановский идеал подражания древним, Гнедич ссылался на автора «Истории искусства древности» как на высший авторитет в оценке художественных творений: «Хотите быть посвященными в тайны искусства, – говорит Винкельман, в святилище тайн сих проникнувший: подходите к произведениям его с чувством предубеждения в их пользу, и красоты – тотчас раскроются перед вами» [15] [Гнедич Н.И. Письмо к Б. о статуе Мира. Пб., 1817. С. 5.]. Любопытно, что в том же 1817 г. Батюшков в своей записной книжке отметил этот винкельмановский подход к произведениям изящной словесности именно как отличительное свойство Гнедича: «У Гнедича есть прекрасное и самое редкое качество: он с ребяческим простодушием любит искать красоты в том, что читает; это самый лучший способ с пользою читать, обогащать себя, наслаждаться. Он мало читает, но хорошо» (т. II, с. 53). Сам Батюшков по складу характера отнюдь не был прилежным читателем эстетических трактатов. И все же его собственные размышления о языке и словесности развиваются в русле винкельмановских идей. Так, в уже цитированном нами письме Батюшков противопоставляет «музыкальным звукам авзонийского языка» «плоховатое и грубенькое» родное наречие. «Что за ы? – возмущался поэт. – Что за щ? Что за ш, ший, щий, при, тры?» (т. II, с. 197). Это, казалось бы, столь цеховое, тесно связанное с техническими поисками признание неожиданно обнаруживает связь с наблюдениями Винкельмана, писавшего в «пояснениях к мыслям по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре», что «некоторые народы <...> скорее свистят, чем разговаривают» и что «все северные языки чрезмерно изобилуют согласными, что зачастую придает им неприятный характер» [16] [Винкельман И.И. Избранные произведения и письма... С. 140.]. Известно, что в своих стихах Батюшков стремился к «италианскому» благозвучию, сущность которого он видел в развитом вокализме. Отметим, что именно в «избытке гласных» усматривал Винкельман «преимущество греческого языка над всеми известными нам», причину его «лучшей, по сравнению с другими, способности выражать форму и сущность самой вещи посредством созвучия слов и следования их друг за другом» [17] [Винкельман И.И. Избранные произведения и письма... С. 140-141.]. Отзвуки этих идей слышны и в статье Батюшкова 1815 г. «Ариост и Тасс», где говорится, что совершенство, достигнутое автором «Неистового Орландо», недостижимо на языке «северного народа <...> английского или немецкого, например». Отдавая «полную справедливость Виланду». Батюшков все же замечал, что «в «Обероне» менее вещей, нежели в «Орланде», язык не столь полон и заставляет всегда чего-нибудь желать» (т. I, с. 123-124). Причину превосходства греческого, а также итальянского языков Винкельман видел в благословенном климате юга, в «прекрасной природе этих стран» [18] [Винкельман И.И. История искусства древности. М., 1933. С. 25–28 (Ч. 1. Отд. 3. Гл. 1).]. Соответственно, и Батюшков писал, что «язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии <...>> имеет характер, отличный от других новейших наречий и коренных языков, в которых менее или более приметна суровость, глухие или дикие звуки, медленность в выговоре и нечто, принадлежащее Северу» (т. I, с. 122). Во всех этих параллелях для нас важно совпадение не столько конкретных наблюдений и формулировок, сколько самого строя мысли. Члены оленинского кружка усваивали, прежде всего, противопоставление севера – югу, современного – античному, и в этой антитезе немецкое оказывалось синонимичным русскому точно так же, как греческое – итальянскому. Обратим внимание на одну частную, но весьма показательную деталь. В своей прославленной книге «О Германии», оказавшей, как бесспорно установил И.З. Серман, глубокое влияние на Батюшкова [19] [Серман И.З. Поэзия К.Н. Батюшкова. Ученые записки ЛГУ, сер. филологии, наук. 1939. Вып. 3. С. 256-260.], мадам де Сталь, давая высокую оценку поэтическим ресурсам немецкого языка, одновременно оговаривалась: «Il lui reste encore une sorte de roideur» [20] [Staël J. de. De L'Allemagne. P., 1857. P. 135.] * [Он сохранил еще некоторую жесткость (фр.)]. В «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», тесно связанной с концепциями де Сталь [21] [См.: Серман И.З. Указ. соч. С. 246-248.], Батюшков практически дословно повторил эту фразу применительно к русскому языку, «громкому, сильному и выразительному», но сохранившему еще некоторую суровость и упрямство» (курсив мой. – A.З.) (т. I, с. 33). В этой, условно говоря, «винкельмановской» системе понятий русское / немецкое противостояло античному, как варварское и грубое – идеально прекрасному. Отрицательное отношение Батюшкова к родному языку и родной истории («невозможно читать русской истории хладнокровно <...> подивись, подивимся мелким людям, которые роются в этой пыли. Читай Римскую, читай Греческую историю, – к сердце чувствует и разум находит пищу», – т. I, с. 109–110) оказывается здесь типологически родственно тому чувству отвращения, которое овладело Винкельманом, когда он пересек Тироль на обратном пути из Италии в Германию. Однако для членов оленинского кружка не менее, если не более актуальной была и другая оппозиция, которую столь же условно можно назвать «гердеровской». В ней греческое, сохраняющее свою эталонную роль, оказывалось противопоставлено уже французскому, как естественное и природное – искусственному или испорченному. Соответственно для русского (опять-таки в той же степени, что и немецкого) писателя или художника обращение к античному опыту становилось не преодолением собственной народности, но возвратом к ней. «Формулируемая в кружке А.Н. Оленина концепция античного стиля (античной топики) для произведений с национальным содержанием, – пишет A.M. Кукулевич, – <...> возникшая в результате взаимодействия винкельмановского неоклассицизма и понятой в духе Гердера народности, способствовала образованию в недрах русского классицизма своеобразной стилевой системы» [22] [Кукулевич A.M. Русская идиллия Гнедича «Рыбаки» // Ученые записки ЛГУ, сер. филологич. наук. 1939. Вып. 3. С. 312.]. Без всякого сомнения, самой значительной и яркой манифестацией этой системы в литературе стал перевод «Илиады» Гомера, предпринятый Н.И. Гнедичем. Начало литературной деятельности Гнедича до его сближения с Олениным проходит под знаком совершенно фанатического увлечения ранним Шиллером. Он переводит «Заговор Фиеско в Генуе» (1803), издает сборник «Плоды уединения» (1802), в основном состоящий из переводов и переделок из Шиллера [23] [См.: Егунов А.Н. «Плоды уединения» Гнедича. XVIII век. Сб. 7. М.; Л., 1966. Об отношении Гнедича к Шиллеру см. также: Harder H.-B. Schiller in Russland. Materialen zu einer Wirkungsgeschichte. В.; Zurich, 1969. S. 80–85.], выпускает оригинальный роман «Дон Коррадо ди Геррера, или Дух мнения и варварства гишпанцев» (1803), не только содержащий эпиграф из «Разбойников», но и полностью выдержанный в стилистике этой дебютной пьесы своего кумира. Откликаясь на известие о выходе романа в свет, литератор З.А. Буринский писал Гнедичу, что «это творение <...> покажет немцам, что не у них одних писали пером Мейснера, Лессинга и Шиллера» [24] [Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1895 год. Пб., 1898. Приложение. С. 46-47.]. Войдя в оленинский кружок, в котором авторитет как Шиллера, так и немецкой литературы в целом был очень невысок [25] [Harder H.-B. Op. cit. S. 140-141.], Гнедич частично пересматривает свою позицию. В своей записной книжке (записи в публикации П.Н. Тиханова не датированы) он замечает: «Германцы гораздо лучше судят об искусствах, чем их производят в действо. У них все впечатления искусств прежде анализируют, чем истинно их почувствуют. <...> Вообще германцы сильнее в теории, чем в практике. Север весьма мало благоприятствует искусствам, можно сказать, что дух наблюдения дан ему единственно для того, чтобы быть созерцателем полдня» [26] [Тиханов П.Н. Н.И. Гнедич... С. 72.]. В этом описании уроженца севера, которому дух анализа дан единственно, чтобы он мог постичь красоты искусства юга, кажется, угадывается намек на Винкельмана. Вслед за этой характеристикой немецкого отношения к искусству Гнедич формулирует свои претензии к современной ему литературе Германии: «Германцы любят мрак, они часто облекают темнотою то, что светло как день. Этому причиной любовь к метафизике, от которой сам Виланд, поклонник французских писателей, не мог освободиться <...> По свойству их правительства, не предоставляющего им великих и знаменитых случаев к славным делам, – они во всех родах предаются умозрению и, не находя ничего в настоящем положении вещей, что говорило бы их воображению, они все занимаются идеалами и в пределах метафизического мира ищут того, в чем скупая к. ним судьба на земле им отказывает» [27] [Тиханов П.Н. Н.И. Гнедич... С. 72–73.]. Тем самым темнота и метафизический дух немецкой литературы происходят, по Гнедичу, и от политического убожества Германии. Гнедич снова следует здесь Винкельману, видевшему в искусстве порождение как климата, так и общественного устройства. Однако осуждение Гнедича распространяется не на всю немецкую словесность. Писатели, ориентирующиеся на античные образцы, оказываются способны сохранить в своем творчестве живущий в этих образцах дух народности и свободолюбия. В записных книжках Гнедич среди величайших творцов человечества наряду с Платоном, Гомером, Шекспиром и Данте называет Шиллера [28] [Тиханов П.Н. Н.И. Гнедич... С. 35.], а в 1820–1821 гг. в предисловии к идиллии «Сиракузянки» замечает, что «до сих пор одни поэты германские, нам современные, хорошо поняли Феокрита», «Фосс, Броннер, Гебель, – развивает свою мысль Гнедич, – произвели идиллии истинно народные, пленительные картины оных переносят читателя к той сладостной жизни в недрах природы, от которой нынешнее состояние общества нас так удаляет, они вселяют даже любовь к сему роду жизни. Успех сей производят не одни дарования писателей <...> Германские поэты поняли, что род поэзии идиллической, более нежели всякой другой, требует содержаний народных, отечественных» [29] [Гнедич Н.И. Стихотворения. Л., 1956. С. 184.]. Именно проникновение в дух Феокрита делает, по мысли Гнедича, народными немецких идилликов. То же погружение в античность должно стать верным путем к русской народности. «Где, как не в России, более состояний людей, которых нравы, обычаи, жизнь так просты, так близки к природе?» [30] [Гнедич Н.И. Стихотворения. Л., 1956. С. 184.] – риторически спрашивал поэт. Опыт Фосса и Броннера служил для него опорой в работе не только над переводом феокритовых «Сиракузянок», но и над оригинальной русской идиллией «Рыбаки» [31] [См.: Кукулевич A.M. Русская идиллия Гнедича «Рыбаки».]. Впрочем, эти произведения Гнедича были изданы уже в начале 1820-х годов, но взгляды, выраженные в предисловиях к «Сиракузянкам», оформились у него много раньше. Еще в начале 1814 г. в «Рассуждении о причинах, замедляющих успехи нашей словесности» Гнедич видел главное препятствие развитию русской литературы во французском влиянии, а средство к преодолению этого препятствия усматривал в развитии классического образования. Вне всякого сомнения «Рассуждение...» Гнедича было программным выступлением оленинского кружка [32] [См.: Мордовченко Н.И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 133.], а развернутая в нем концепция выкристаллизовалась у автора в ходе работы над переводом «Илиады». Как известно, в соответствии с жанровым каноном русской эпической поэмы, Гнедич начинал переводить Гомера александрийским стихом. Однако очень скоро по целому ряду внешних и внутренних причин работа его зашла в тупик, выходом из которого стал отказ от уже проделанной работы и переход к гекзаметрическому переводу [33] [См.: Егунов A.M. Гомер в русских переводах XVIII–XIX вв. М.; Л., 1964. С. 150-156.]. Речь здесь шла отнюдь не о технической проблеме, – смена размера означала смену философии перевода. Не случайно Гнедич решился на этот шаг по совету Оленина, а публикация первых гекзаметрических отрывков предварялась теоретической статьей Уварова. «Уваров был учеником немецких неогуманистов, был воспитан в идеологии, возглавляемой Фр.-Авг. Вольфом и видевшей путь к немецкой народности через эллинизм» [34] [Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Пг., 1922. Т. I. С. 240.], – писал Г.Г. Шпет. Этот тезис был категорически и без всяких аргументов отвергнут С.Н. Дурылиным, одновременно расценившим как лицемерие посвящение Уваровым его книги «Nonnos von Pannopoiis. Der dichter»* [Нонн Паннополитанский – поэт (нем)] Гёте [35] [Дурылин С.Н. Русские писатели у Гёте в Веймаре // Лит. наследство. 1932. Т. 4-6. С. 186-206.]. «Возрождение науки о древности принадлежит немцам, – обращался Уваров к Гёте <...> – Настало время, когда каждый, не заботясь об орудии, должен всегда выбирать язык наиболее близкий к тому кругу идей, в который он собирается вступить. Поскольку я этим своим сочинением так же намеревался публично признаться в том, чем я обязан немецкой культуре и немецким друзьям, и, как почитатель Ваш, считал своим долгом посвятить эти страницы Вам» [36] [Ouvaroff S. Etudes de Philologie et de critique. SPb., 1843. P. 165-166; ср.: Дурылин С.Н. Указ. соч. С. 206-207.]. Думается, что в своей замечательной работе С.Н. Дурылин подошел к ранним трудам Уварова достаточно предвзято, ориентируясь прежде всего на его позднейшую репутацию как министра. Между тем хотя бы обращение к статьям Уварова о гнедичевском переводе «Илиады» убеждает в точности того определения генезиса идеологии Уварова, которое дал Г.Г. Шпет. Прежде всего существенно, что конечной целью уваровской программы оказывается народность русской литературы. «Если мы хотим иметь словесность народную, нам истинно свойственную, – заявляет Уваров, – то перестанем эпопею писать или переводить александрийскими стихами; перестанем отягощать младенчество нашей словесности тяжелыми цепями французского вкуса». По уже знакомой нам логике рассуждения, одним из лучших способов к достижению оной цели» Уваров считает «знакомство с древними», а пример для отечественных писателей он видит в Германии: «Если Немцы, владея языком весьма непокорным, достигли до того, что имеют хорошие и верные метрические переводы, зачем нам, Русским, не иметь, наконец, переводы Омера Экзаметрами? Не забудьте Шлецера, который говорит, что перевод Омера на Славенорусском языке должен превосходить все прочие переводы» [37] [Уваров С. Письмо к Н.И. Гнедичу о греческом гекзаметре // Чтения в Беседе любителей Российского слова. 1813. Вып. 13. С. 65–67.]. Четвертью века ранее Карамзин, посетивший в Веймаре Гердера, делился своими впечатлениями от беседы: «Гердер, Гёте и подобные им, присвоившие себе дух древних Греков, умели и язык свой сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобнейшим языком; к потому ни Французы, ни Англичане не имеют таких хороших переводов с Греческого, какими обогатили ныне Немцы свою литературу. Гомер у них Гомер; та же неискусственная благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда Царевны ходили по воду, а Цари знали счет своим баранам» [38] [Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 83.]. Теперь Уваров, восхищаясь немецкими переводами Гомера, подчеркивал, что русский язык в принципе более, чем немецкий, приспособлен для передачи духа греческого подлинника. Отметим, что и Карамзин, по-видимому пользовавшийся информацией Гердера, и Уваров явно говорили об одних и тех же переводах Фосса, выпустившего в 1761 г. гекзаметрическую версию «Одиссеи», а в 1793 – «Илиады» с собственными примечаниями. Гнедич пользовался разысканиями Фосса еще при работе над переводом Гомера александрийским стихом, естественно, при переходе к гекзаметру опыт немецкого предшественника приобрел для него решающее значение. По указанию A.M. Кукулевича, русский филолог середины XIX в. Б.И. Ордынский, перелагавший Гомера прозой, считал, что Гнедич переводил не Гомера, а Фосса. [39] [Кукулевич A.M. «Илиада» в переводе Гнедича // Ученые записки ЛГУ, сер. филологич. наук. 1933. Вып. 2. С. 9. О переводах самого Ордынского см.: Егунов А.Н. Гомер в русских переводах... С. 394–401.] Разумеется, это крайнее преувеличение, продиктованное ревностью, и все же в основе его лежат вполне реальные наблюдения. Гнедича особенно привлекали два аспекта работы Фосса: во-первых, «грецизация» языка перевода, нашедшая свою русскую параллель в обращении к церковнославянскому языковому наследию, и, во-вторых, осторожное опрощение подлинника. В одном из писем Батюшкову Гнедич утверждал, что Гомер говорит языком «матросов и свинопасов» [40] [РО ИРЛИ. Р. 1. Оп. 5, е.х. 56. Л. 22.], и, руководствуясь этой мыслью, переводчик «осмелился пользоваться и наречиями областными» [41] [Гнедич Н.И. Стихотворения. С. 316. См. также: Егунов А.Н. Гомер в русских переводах... С. 200-201.]. Русский и греческий языки у Гнедича, как и немецкий и греческий у Фосса, как бы делали шаги навстречу друг другу. Обращение Гнедича к гекзаметрам встретило критику Капниста, который, так же как и Уваров, был противником александрийского стиха. Однако Капнист предлагал искать путей к русской народности как бы в обход эллинской стихии и немецкого опыта. По его мнению, переводить Гомера на русский язык следовало размером народных песен. В ответном письме Уваров полностью опроверг филологические и стиховедческие аргументы Капниста, заметив, что «Гомер в русском зипуне столько же <...> противен, как и во французском кафтане». В то же время он признавал возможность и необходимость «поэмы русским размером» на сюжет из отечественной истории. Именно за такую поэму Уваров советовал приняться Жуковскому [42] [Уваров С.С. Ответ В.В. Капнисту на письмо его об экзаметре // Чтения в Беседе... 1815. Вып. 17. С. 61-64.]. Надо сказать, что Жуковский отнесся к этим советам, исходившим от Уварова, так и от Батюшкова, весьма серьезно. Он неоднократно принимался за поэму «Владимир», но так и не сумел продвинуть ее сколько-нибудь далеко. Одно время замыслы аналогичной поэмы одолевали и самого Батюшкова [43] [См.: Зубков Н.Н. Опыты на пути к славе // Зорин А., Немзер А., Зубков Н. Свой подвиг свершив... М., 1986. С. 317–319.] но и он не пошел дальше заглавий и планов. Вероятно, неоклассическая утопия истинно народного произведения была принципиально неосуществимой. Таким образом, немецкая культура играла в концепциях русских неоклассиков двоякую роль. С одной стороны, она служила примером безоглядной тоски по югу и классической древности, тоски, сопровождающейся глубинным отталкиванием от национального бытия. Реальным центром тяготения в этой, винкельмановской, модели оказывались природа и художественные памятники Италии, Греция, находившаяся под турецким владычеством, была тогда по существу отрезана от европейского мира. С другой стороны, в своем гердеровском изводе немецкая культура давала образец обретения собственной народности через постижение и усвоение античного наследия и, в первую очередь, шедевров древнегреческой литературы с их естественной связью с основами народной жизни. Встречи Батюшкова с Германией проходили как бы в силовом поле этих одновременно взаимодополнительных и взаимопротиворечивых установок, сложным образом формировавших его литературное мироощущение. Впрочем, первая из таких встреч носила еще всецело бытовой характер. Впервые Батюшков столкнулся с немецким миром в ходе антинаполеоновской кампании 1807 г. Причем ему так и не довелось проникнуть в этот мир глубже его самой отдаленной периферии – рижского купечества, «царства табака и чудаков», поначалу вызвавшего у него презрительное раздражение. «Я немцев более еще возненавидел: ни души, ни ума у этих тварей нет» (т. II, с. 68), – поддразнивает Батюшков 19 марта 1807 г. Гнедича, контрабандно сохранившего в оленинском кружке свои германофильские пристрастия. Однако очень скоро поэту пришлось столкнуться с положительными сторонами бюргерского быта. Тяжело раненный в гейльсбергском сражении, Батюшков был доставлен в Ригу и окружен заботой в доме «самого богатого купца» города – Мюгеля. «Sa fille est charmante, la mere bonne comme une ange, tout cela m'entoure, Ion me fait de la musique»* [Его дочь очаровательна, мать добра, как ангел, они окружают меня, играют для меня музыку (фр.)] (т. II, с. 72), – писал Батюшков сестре, а Гнедичу признавался: «Меня принимают в прекрасных покоях, кормят, поят из прекрасных рук: я на розах» (т. II, с. 71). Есть основания предполагать, что именно дочь Мюгеля была адресатом любовной лирики Батюшкова тех лет. В 1814 г., удивляясь, что поэта долго нет из покоренного Парижа, Д.В. Дашков в письме к П.А. Вяземскому предполагал, что он мог «залететь опять, по дороге, в Ригу к своей немочке на старое пепелище» [44] [Русский архив. 1866. № 3. Стлб. 497.]. Побывавший в Германии в ходе кампании 1813 г. А.Ф. Раевский был изумлен и очарован сочетанием в немецкой женщине среднего сословия хозяйственной деловитости с просвещенностью и утонченностью. «Прелестная Эмилия и Шарлотта весьма спокойно чистит лук или картофель, от кастрюлек хладнокровно переходит она к фортепьяно или арфе, восхищается Шиллером, Гёте, и все это так непринужденно, так свободно, что и самая несообразность перестает казаться странностью» [45] [Раевский А.Ф. Воспоминания о походах 1813 и 1814 гг. М., 1822. Ч. 1. С. 55-66.]. Думается, те же впечатления водили пером Батюшкова, когда в 1810 г. в записной книжке «Разные замечания» он шутливо описывал свой женский идеал, столь разительно несхожий с обликом русской дворянской барышни: «Прекрасная женщина всегда божество, особливо если мила и умна, если хочет нравиться. Но где она привлекательнее? За арфой, за книгою, за пяльцами, за молитвою или в кадрили? – Нет совсем! – а за столом, когда она делает салад». И в следующий раз Батюшкова сталкивает с Германией война. В качестве адъютанта генерала Н. Раевского он проводит здесь октябрь-декабрь 1813 г. вплоть до вступления русских войск во Францию. По пути в действующую армию он встретился в Варшаве со своими приятелями А.Ф. Раевским и Ф.Н. Глинкой [46] [Там же. С. 24. Андрей Федосеевич Раевский (1794–1827), брат декабриста В.Ф. Раевского, был «одним из главных деятелей» в издании «Военного журнала», органа, близкого к раннедекабристским кругам, редактором которого был Ф. Глинка (см.: Тартаковский А.Г. 181.2 год и русская мемуаристика. М., 1980, С. 166).], оставивших подробные воспоминания о кампании 1813 г. На фоне их впечатлений особенности батюшковского восприятия Германии и немецкой культуры становятся куда отчетливее. Надо сказать, в «Письмах русского офицера» Глинки и «Воспоминаниях о походах» Раевского нарисованы очень схожие между собой картины. Объясняется это сходство не только тем, что авторы обеих книг были близкими друзьями и единомышленниками, в их мемуарах угадывается более широкий, так сказать, типовой взгляд «русского офицера» на быт и нравы союзной страны. (Прусская армия выступила вместе с русской почти с самого начала кампании, а саксонская, вопреки желанию своего короля, перешла на сторону союзников в начале октября 1813 г. после лейпцигской «битвы народов».) Дружественность населения немецких государств к русским солдатам и офицерам, естественно, более всего располагала мемуаристов к Германии. «Узы взаимной опасности, несчастий и славы соединили Пруссаков с Россиянами теснее, чем самые узы крови» [47] [Раевский А.Ф. Воспоминания... Ч. 2. С. 58.], – пишет Раевский. «Народ саксонский принимает русских с почтением и сердечною радостию <...> О добрый народ <...> как не сражаться за свободу твою» [48] [Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1870. С. 133.], – восклицает Глинка. Оба мемуариста отмечают трудолюбие и предприимчивость местных жителей, «чистящих и метущих городки свои как комнату», превращающих «болотистые долины <...> в плодоносные поля». Особенно поражает русских воинов достаток и просвещенность средних и даже низших сословий немецкого общества. «Посмотри на эти высокие каменные строения с огромными конюшнями, скотными дворами, огородами, прекрасными садами, цветущими беседками – как думаешь, что это? Зерно господские дома, дома князей и баронов. – Нет! это деревня, где живут силезские крестьяне. Дивись, но верь», – поражается Глинка настолько сильно, что не замечает повторения риторического оборота, к которому он прибег буквально несколькими страницами выше: «Вот прекрасная чистая комната, украшенная живописью, зеркалами и диванами. Хозяин одет очень опрятно; пьет по утрам кофе, имеет вкусный стол, ходит в театр, читает книги и судит о политике. Кто он таков? Угадай! – Дворянин? – Нет! – Богатый купец? – И то нет. – Кто ж? – Мещанин, цирюльник. Я предчувствую удивление твое и разделяю его с тобою. Разве у нас нет цирюльников, но они живут в хижинах, часто в лачужках. Отчего же здесь люди так достаточны? Эта тайна образа жизни немцев» [49] [Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1870. С. 98, 110, 100.]. Тайна эта не перестает беспокоить авторов. Им «кажется странным, что самые крестьяне с жадностью читают политические листки и рассуждают о происшествиях мира», что «имена Шиллера, Гёте, Бюргера, юного Кернера и других великих писателей известны даже поселянам» [50] [Раевский А.Ф. Воспоминания... Ч. 2. С. 62, 65.], что «четырнадцатилетняя бедная саксонка умеет говорить с пленительным благоразумием» [51] [Глинка Ф.Н. Указ. соч. С. 167.]. Одно из возможных объяснений этих загадок русские офицеры ищут в исправности государственного механизма в немецких землях. «Немцы, расчетливые в хозяйстве, без роптания повинуются законам и охотно делают самые тягостные пожертвования, если уверены, что сие необходимо для блага общего», – замечает Раевский. Говоря о военных реквизициях скота, о рекрутских наборах, он подчеркивает, что «везде видна была горесть, но нигде не слышен был вопль негодования» [52] [Раевский А.Ф. Воспоминания... Ч. 2. С. 64.]. Глинка же даже утверждает, что рекрутский набор сопровождается радостными торжествами. «Так стремятся пруссаки защищать свое правительство, – заключает он. – И как не защищать этого кроткого, на мудрости и точности основанного правительства? Представьте, что здесь не имеют даже понятия о взятках и о том, как можно разживаться должностью и как кривить весы правосудия за деньги!» В другом месте Глинка задавался вопросом, отчего в Саксонии даже в отсутствии находящихся в отъезде короля и министров «все <...> идет так хорошо?» «Главная причина есть та, – заключал автор, – что всякий твердо знает должность свою и привык исполнять ее. Порядок в государстве есть то же, что маятник в часах» [53] [Глинка Ф.Н. Указ. соч. С. 187, 116.]. В рассуждениях на эти темы Батюшкова много сходного. Он сохраняет свойственную его приятелям идеализацию союзной Германии и ее противопоставление враждебной Франции. Однако в своих объяснениях «тайны образа жизни немцев» поэт существенно сдвигает акцент с политических факторов на историко-культурные. «Французы и теперь мало заботятся о древних памятниках, – пишет он в одном из примечаний к очерку «Путешествие в замок Сирей». – Развалины, временем сделанные, – ничего в сравнении с опустошениями революции: бурные времена прошли, но невежество и корыстолюбие самое варварское пережили и революцию. <...> Какая разница с немцами! В Германии вы узнаете от крестьянина множество исторических подробностей о малейшем остатке древнего замка или готической церкви. Все рейнские развалины описаны с возможною историческою точностию учеными путешественниками и художниками, и сии описания вы нередко увидите в хижине рыбака или земледельца. Притом же немцы издавна любят все сохранять, а французы разрушать: верный знак, с одной стороны – доброго сердца, уважения к законам, к нравам и обычаям предков; а с другой стороны – легкомыслия, суетности и жестокого презрения ко всему, что не может насытить корыстолюбия, отца пороков» (т. I, с. 100). Подход этот очень характерен для Батюшкова. Нравы народа раскрываются через его отношение к национально-культурным ценностям. В этом плане важно иметь в виду, что единственное дошедшее до нас развернутое описание Германии, сделанное Батюшковым, содержится в его письме Гнедичу из Веймара, города, который был литературной и театральной столицей немецких земель в той же мере, в какой Дрезден был столицей художественной. Соответственно, сформировавшийся у Батюшкова образ страны выражен здесь на языке литературных ассоциаций и может быть реконструирован только с помощью филологического комментария. Приведем это описание. «Мы теперь в Веймаре дней десять; живем спокойно, но скучно. Общества нет. Немцы любят русских, только не мой хозяин, который меня отравляет ежедневно дурным супом и вареными яблоками. Этому помочь невозможно; ни у меня, ни у товарищей нет ни копейки денег, в ожидании жалованья. В отчизне Гёте, Виланда и других ученых я скитаюсь, как скиф. Бываю в театре изредка. Зала недурна, но бедно освещена, в ней играют комедии, драмы, оперы и трагедии, последние – очень недурно, к моему удивлению. «Дон Карлос» мне очень понравился, и я примирился с Шиллером. Характеры Дон Карлоса и королевы прекрасны. О комедии и опере ни слова. Драмы играются редко, по причине дороговизны кофея и съестных припасов; ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтраком в первом действии и кончается ужином. Здесь лучше всего мне нравится дворец герцога и английский сад, в котором я часто гуляю, несмотря на дурную погоду. Здесь Гёте мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план «Оберона» и летал мыслию в области воображения; под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих; под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками. Всему есть время. Гёте я видел мельком в театре. Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе. Я схожу с ума на Фоссовой «Луизе»; надобно читать ее в оригинале и здесь, в Германии. Книги вообще дороги, особенно для нас, бедняков, хотя здесь фабрика книг» (т. II, с. 262). Прежде всего отметим, что Батюшков ошибается относительно творческой истории «Оберона» и «Страданий молодого Вертера», которые были написаны до переезда Виланда и Гёте в Веймар. Однако ошибка эта симптоматична. Поэт называет свои любимые произведения, в эстетическую ауру которых он стремится войти. Прикосновение к месту, где созревали великие замыслы, порождает эффект соприсутствия, афористически описанный в стихотворении Н.М. Карамзина «Дарования»: «На все с веселием гляжу, / Что Клейст, Делиль живописали, / Стихи их в памяти храня, / Гуляю, где они гуляли, / И след их радует меня» [54] [Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 219.]. Особо следует сказать о «примирении с Шиллером». До 1813 г. Батюшков относился к Шиллеру иронически и в уже цитированном нами письме Гнедичу из Риги уговаривал его принести «на жертву какую-нибудь трагедию Шиллеру» [55] [Традиционное и более осмысленное чтение «трагедию Шиллера», к сожалению, не соответствует рукописи (ОГ Науч. библиотеки Вильнюсского ун-та. Ф. 81, е.х. 4). Кроме того, форма притяжательного родительного падежа на «а» совершенно не характерна для Батюшкова. Вместе с тем все возможные интерпретации дательного падежа совершенно не соответствуют смыслу письма. По нашему мнению, допустимо предположить здесь описку и предложить сохраняющую то же значение конъектуру «трагедию Щиллер<ов>у».] (т. II, с. 68). В 1809 г., откликаясь на толки вокруг сделанного Гнедичем перевода «Танкреда» Вольтера, Батюшков воспользовался случаем, чтобы презрительно вспомнить ранние шиллеристские опыты своего друга: «Ты нажил завистников? <...> «Коррадо» их не родит, а переводы «Илиады» и «Танкреда» имеют сильные права на зависть и злобу» (т. II, с. 100). В одном из своих писем Гнедич попытался в шутку заступиться за своего былого кумира: «Распоронный мой чемодан всякому скажет, что в нем осталась половина только его внутренностей, а половину в Гатчине добрый человек вырезал – спасибо за честность! Верно этот благодетель читал Шиллеровых «Разбойников» траг<едию>, где говорится, что у человека не надобно всего отнимать, а только половину, а ты бранишь Шиллера» [56] [РО ИРЛИ. Р. 1. Оп. 5, е.х. 56. Л. 13.]. Батюшков принял шутку, но не принял заступничество за Шиллера: «По всем моим выкладкам и вычислениям ты лжешь, или этот вор должен быть не Шиллеров разбойник, а сочинитель коцебятины, то есть практический драматургист» (т. II, с. 144). Теперь Батюшков вроде бы признал правоту Гнедича. Позднее в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», достаточно, впрочем, стандартной в области литературных оценок, он даже назвал Шиллера «великим», и все же его примирение с немецким драматургом было еще не полным. Заслуживает внимания, что Батюшков выделяет в «Дон Карлосе» характеры протагониста и королевы, сосредоточив тем самым свое внимание на традиционно-трагической любовной коллизии. Очевидно, что ни свободолюбивые замыслы «гражданина будущих времен» маркиза Позы, ни злодейства короля и великого инквизитора, т.е. специфически-шиллеровские пружины трагического конфликта, не вызвали у него особого интереса. Еще более важно, что с высокой оценкой «Дон Карлоса» соседствует насмешливый выпад в адрес мещанских драм, «начинающихся завтраком и «играющихся редко по причине дороговизны кофея». Трудно сомневаться, что Батюшков метит здесь в «Коварство и любовь», открывающуюся ремаркой, по которой госпожа Миллер пьет кофе. Поэт как бы записывает прославленную мелодраму Шиллера в разряд «коцебятины». Таким образом, значимым для Батюшкова оказывается высокий, «классический» Шиллер, в то время как изображение мещанских страстей по-прежнему остается для него эстетически неприемлемым. Он решительно отказывает в праве стать героем спектакля своему хозяину, травившему его «дурным супом и вареными яблоками». Здесь, однако, следует сделать еще одну оговорку. Как ясно свидетельствует его восторг перед «Луизой» Фосса, Батюшков вовсе не считал жизнь среднего сословия в принципе недостойной литературы. Речь шла скорее о принципах ее художественного воплощения. Семейная идиллия Фосса, повествующая о свадьбе дочери сельского пастора, была написана тем же гекзаметром, что и его переводы «Илиады» и «Одиссеи». С гомеровской обстоятельностью Фосс описывал незатейливый быт своих героев, пикник в лесу, домашнее музицирование, приготовления свадебного стола, одевание невесты, пляски счастливых гостей. В центре идиллии фигура просвещенной и хозяйственной немецкой девушки из среднего сословия, прототипы которой столь изумляли Раевского и Глинку. Понятно, что этот образ, которому Фосс своими гекзаметрами придал почти античную грацию, должен был вызывать у Батюшкова самые пленительные воспоминания, и поэт; был счастлив, что может читать эту идиллию «здесь, в Германии», окруженный фоссовскими персонажами. Немаловажно, что Батюшков подчеркивает необходимость читать Фосса в оригинале. Строго говоря, иной возможности тогда, кажется, и не было. Очень хорошего русского перевода Павла Теряева (СПб., 1820) еще не существовало; не было, насколько нам известно, и французских переводов. Думается, речь здесь идет, в первую очередь, о размере, которым написана идиллия. Именно гекзаметры сращивали описываемый Фоссом патриархальный мир с чаемой Батюшковым древностью, между тем любые гипотетические переводы могли бы тогда быть только иноразмерными: опыта русского гекзаметра, на который можно было бы опереться в такой работе, не было, и Гнедич только приступил к его созданию. Не случайно в том же письме Батюшков просит Гнедича «прислать ему несколько страниц из «Гомера»«, если он «перевел что-нибудь новое, но только гекзаметрами». «Немцы меня к ним приучили» (т. II, с. 264), – поясняет он свою просьбу. Интересно, что в книге «О Германии» мадам де Сталь хвалит «Луизу» Фосса с очень большой осторожностью. Отметив «трогательную чистоту» («la purete touchante») идиллии, де Сталь одновременно выражает сомнение в пригодности гекзаметра и античного стиля для описания современной жизни. «В современной цивилизации есть нечто буржуазное» [57] [Staël J. de. De L'Allemagne. P. 160.], – замечает она. Батюшкова, по всей видимости, это не смущало. Впрочем, четырьмя годами позднее в элегии «Переход через Рейн» Батюшков выбрал иной способ поэтизации традиционного уклада немецкой жизни.
Очевидно, что поэт не пошел здесь по пути, намеченному Фоссом и позднее использованному Гнедичем в «Рыбаках», и выбрал для описания северного мира северный колорит. Однако такие стихи, как «Переход через Рейн» или «На развалинах замка в Швеции», связаны с ранними батюшковскими переводами из Тибулла, Касти и Парни теснее, чем это принято думать. Для того чтобы уяснить эту связь, полезно провести одну напрашивающуюся параллель. Одним из самых последовательных воплощений «оленинского ампира» было драматургическое творчество В.А. Озерова. Слава Озерова началась с «античного» «Эдип в Афинах» (1804), переделки трагедии Софокла через версию Ж.-Ф. Дюси (Дюсиса). Затем драматург написал «Фингала» (1805), образы которого почерпнуты из легендарного барда Оссиана, являвшегося, согласно мадам де Сталь, родоначальником и высшим воплощением духа литературы севера [58] [Сталь Ж. де. О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями. М., 1989. С. 185.], после чего перешел к сюжету из национальной истории в «Дмитрии Донском» (1807). Завершил свое поприще Озеров греческой «Поликсеной» (1809). Разумеется, все эти пьесы разнятся местным колоритом, но их фундаментальные художественные принципы, включая само понимание couleur locale, оставались почти неизменными. Подобно этому, большие северные элегии были для Батюшкова шагом к созданию национальной поэмы. Своего рода итогом этих стилевых поисков стали циклы «Из греческой антологии» (1817) и «Подражания древним» (1821), последний из которых в основном переведен из сборников Гердера «Цветы греческой антологии» и «Цветы восточной поэзии» (т. I, с. 483, обнаружено А.А. Карповым). Очень характерно, что из статьи Шиллера о Маттисоне, переделкой стихотворения которого является «На развалинах замка в Швеции», Батюшков процитировал место, где говорится о значении «природы и классических образцов» для «духа», «вкуса» и «нравственной грации» поэта (т. I, с. 69-70). Наиболее интенсивные размышления Батюшкова над идеей «русской поэмы приходятся на первую половину 1817 г. В это же время поэт вынашивает еще один масштабный замысел, который ему удалось реализовать лишь частично: издание переводного сборника «Пантеон итальянской словесности». После всего сказанного неудивительно уже, что такая работа побуждает его глубоко вникнуть и в словесность немецкую. Летом того же года он вносит в свою записную книжку под заголовком «Что писать в прозе» программу будущих работ. Среди пунктов этой программы находится и запись: «Что-нибудь о немецкой литературе. По крайней мере, отдать себе отчет в том, что я прочитал» (т. II, с. 31). В той же записной книжке именно знакомство с шедеврами немецкой литературы служит подтверждением способности «любителя изящного не отставать от словесности». «Те, которые не читали Виланда, Гёте, Шиллера, Миллера и даже Канта, – утверждает Батюшков, – похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж, и что Москва сожжена, до сих пор сомневаются» (т. II, с. 45). Упомянутый в этом перечне Миллер не поддается однозначной идентификации. Трудно сказать, имеется ли в виду поэт и романист, автор «Зигварта...», или историк, чьи «Книги по всемирной истории» Батюшков незадолго до того «бросил с досады» (т. II, с. 424) на преувеличенное, с его точки зрения, представление автора о роли немцев в государственной жизни России. Не ясно также, действительно ли Батюшков читал Канта или, что более вероятно, он знакомился с его философией по книге де Сталь «О Германии». Что же касается Гёте, именно в эти месяцы Батюшков обращается к его произведениям, посвященным итальянской тематике. В январе 1817 г. в письме Вяземскому Батюшков откликается на известие о пожаловании Жуковскому пожизненной пенсии словами, которыми Торквато Тассо в одноименной пьесе Гёте говорит об Ариосто:
В июне же он, демонстрируя знакомство с гётевской «Миньоной», зовет Жуковского в «Тавриду, туда wo die Citronen blühn»** [Где цветут лимоны] (т. II, с. 443). Последнее обстоятельство особенно существенно. Свой «Пантеон итальянской словесности» Батюшков предполагал открыть отрывком Слава и блаженство Италии», представляющим собой перевод «Импровизации Коринны на Капитолии» из второй книги романа де Сталь «Коринна». Импровизация эта включает прямые цитаты из «Миньоны», о которой де Сталь писала в своем трактате: «Она выражает тоску по Италии восхитительными стихами, которые вся Германия знает наизусть» [59] [Staël J. de. De L'Allemagne. P. 342.]. Батюшков несомненно узнал эти цитаты. В своем переводе, появившемся в № 15–16 журнала «Вестник Европы за 1817 г., он передал первую строку «Миньоны» фразой: «Знаете ли ту землю, где благоухают лимоны» (т. I, с. 312). Поэт еще раз смог убедиться, что лучшие формы выражения тоски по Италии были созданы немецким гением. В третий раз Батюшков оказался в Германии в 1821 г. После неудач дипломатической службы в Италии и неудачного лечения на водах в Теплице он в сентябре прибыл в Дрезден, где прожил до весны следующего года. По указанию Г. Кенига, именно здесь им был сделан перевод сцены из трагедии Шиллера «Мессинская невеста» [60] [Konig H. Literarische Bilder aus Russland. Stutgart; Tubingen, 1837. S. 125.]. В свое время Л.Н. Майков, вопреки Кенигу, датировал перевод 1813 г. на том основании, что именно к этому времени относится батюшковское увлечение Шиллером [61] [Батюшков К.Н. Сочинения. Пб., 1887. Т. I. С. 374.]. Именно эта датировка долгое время принималась почти всеми исследователями, включая специально изучившего тему Батюшков и Шиллер» Х.-Б. Хардера [62] [Harder H.-B. Schiller in Russland... S. 205–211. Здесь же см. анализ перевода и свод упоминаний Шиллера у Батюшкова. Правильную датировку без аргументации см.: Данилевский Р.Ю. Шиллер и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния. Л., 1977. С. 87.]. Между тем источниковедческий анализ убеждает в абсолютной авторитетности утверждения Г. Кенига. Дело в том, что основным информатором Кенига был Н.А. Мельгунов, который, по свидетельствам из неопубликованных дневников Е.Д. Мухановой (ЦГАОР. Ф. 1019. Оп. 1, е.х. 40. Л. 56 об. и др.) и воспоминаний Н.Г. Геннади, записанных его сыном Г.Н. Геннади (РО ГПБ. Ф. 178, е.х. 7. Л. 74–75), входил в ближайшее окружение Батюшкова в Дрездене. Сохранилась и записка Батюшкова к Мельгунову этого времени» (т.II, с. 573). [63] [См. уточнение датировки: Батюшков К.Н. Избр. соч. М., 1986. С. 480–481.] Установление времени создания перевода помогает понять смысл этого обращения Батюшкова к Шиллеру. «Мессинская невеста» рассказывает о тщетной попытке примирения двух обреченных на кровную вражду братьев, попытке, в конечном счете приводящей обоих к гибели. По-видимому, не случайно этот сюжет, разворачивающийся к тому же на юге Италии, заинтересовал Батюшкова после того, как он стал невольным свидетелем событий неаполитанской революции, начавшейся ликующим единением принявшего конституцию короля с восставшим народом и закончившейся военными действиями и кровавой резней. В который раз немецкая литература была призвана помочь осмыслить итальянские впечатления. Весной 1822 г. Батюшков возвращается из Дрездена в Петербург совершенно больным. Следующий раз в Германию его уже привозят. Четыре года он проводит в психиатрической клинике в маленьком немецком городке Зонненштайн. «Прекрасен здесь вид Эльбы величавой, / Роскошной жизнью берега цветут, / По ребрам гор дубрава за дубравой, / За виллой вилла, летних нег приют... Здесь он страдал, томился здесь когда-то / Жуковского и мой душевный брат / Он, песнями и скорбью наш Торквато, / Он, заживо познавший свой закат» [64] [Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1986. С. 312–313.], – писал в 1853 г. Вяземский, посетив Зонненштайн. Батюшков был еще жив. Ровно за четверть века до того его, за полной неизлечимостью, перевезли из Зонненштайна назад в Россию. Нам уже приходилось цитировать рассказ Д.В. Дашкова о том, как по пути домой Батюшков, глядя в синее небо, называл своей родиной родину Данте, Ариоста и Тассо. В том же письме есть и еще одна волнующая подробность: «При перемене лошадей он беспрестанно понуждал, чтобы скорее запрягали, и не иначе называл коляску как колесницею, воображая, что поднимается на небо, говоря: «Dahin, dahin, dort ist mein Vaterland» [65] [Батюшков К.Н. Сочинения. Пб., 1887. Т. 1. С. 322.] * [Туда, туда, там мое Отечество]. Невозможно сказать, куда несла Батюшкова колесница, и видел ли он свое отечество в Италии или прямо в небесном Элизии. Возможно, он уже не особенно отличал одно от другого. Но как бы то ни было, томившую его всю жизнь тоску по настоящей родине он смог лучше всего выразить строкой все той же «Миньоны». Это «Dahin, dahin», выговоренное в безумии, становится ключом к судьбе Батюшкова и ко всему культурно-историческому движению, которое он воплотил в себе с такой трагической силой. Вне Винкельмана и Гердера, Фосса и Гёте смысл этой судьбы и этого движения неизбежно останется непонятым до конца. «Родиною его музы должна была быть Эллада, а посредником между его музою и гением Эллады – Германия» [66] [Белинский В.Г. Собр. соч. М., 1879. Т. IV. С. 303.] – писал о Батюшкове Белинский. Критик думал, что в действительности дела обстояли иначе. Он ошибался. Источник: Зорин А. Л. Батюшков и Германия / А. Л. Зорин // Arbormundi = Мировое древо. – 1997.– Вып. 5.– С. 144–164. |
|||||