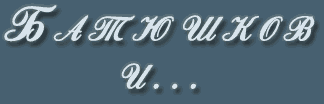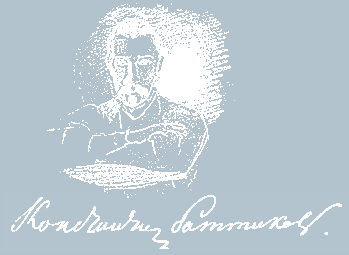
Титульный
лист |
Янушкевич А. С. В. А. Жуковский и К. Н. Батюшков
|
||||||
|
Мотив «мечты» обретает в их поэзии новый масштаб. На смену пониманию мечты как химеры, призрака, характерному для предшествующей эпохи, приходят иные определения: «богиня мечта», «душа поэтов и стихов». Оба поэта создают по две редакции «Мечты», тем самым подчеркивая значимость понятия как составной части нового миросозерцания. Понятие вводится в область психологии творчества, неразрывно связано с размышлениями о природе творческой фантазии, воображения. В атмосфере Дружеского литературного общества, многочисленных речей о воображении [1] [Подробнее об этом см.: Розанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Вып. 2. – Пг., 1916, с. 158–161.] Жуковский читает в 1801–1806 гг. огромную литературу, посвященную этой проблеме, в частности, специальный трактат французского моралиста и философа Вовенарга «Введение к познанию ума человеческого». На полях главы о воображении он записывает: «Воображение есть качество души, способность творить новые вещи и разрушать старые... По сему предмет поэта принадлежит воображению» [2] [Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 3. – Томск, 1988.]. Для Батюшкова «поэзия... сочетание воображения, чувствительности и мечтательности» («Нечто о поэте и поэзии») [3] [Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. – Спб., 1886, с. 118. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.]. Возникает характерный семантический ряд: мечта – фантазия – воображение, что сближает первых русских романтиков с поисками европейских романтиков. У Батюшкова две «Мечты» – путь к дифференциации понятия, его общественному наполнению, хотя основная мысль: «мечтание – душа поэтов и стихов» остается неизменной. У Жуковского шиллеровские «Идеалы», превратившиеся в «Мечты», – точка отталкивания для разговора о свободе творческого гения, животворящей силе поэзии, гимн поэту-творцу. Слова-понятия: «животворить», «одушевить», «очаровать», «оживлять» все активнее входят в поэтический словарь: «И мертвое отзывом стало / Пылающей души моей», «И неестественным стремленьем / Весь мир в мою теснился грудь; / Картиной, звуком, выраженьем / Во все я жизнь хотел вдохнуть...» [4] [Жуковский В. А. Полн. собр. соч. в 12-ти томах. Т. 2. – Спб., 1902, с. 14–15. Далее все ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.] Преобразующая, действенная сила мечты становится определяющим моментом в поэтической философии. Показательно, что в стихотворениях «К поэзии», «К моей лире» Жуковского и в «Послании к стихам моим» Батюшкова, посвященным проблемам творчества, продолжается дальнейшее введение этого понятия в эстетическую систему. Философия «мечты» становится структурообразующим принципом поэтического мышления. Мечта – соединение двух миров, то, что помогает уйти «от сует ... забвения тропой». Не случайно мотив воспоминания не просто был активно заявлен обоими поэтами. Они увидели в нем – связующую нить между мирами. У Батюшкова воспоминание – в ореоле «мечты»:
Сама рифма «вспоминанье» – «мечтанье» материализует связь двух понятий. Характерно появление в «Воспоминании» Батюшкова образов «спокойного домоседа» и «странника». Романтические оппозиции формируются как в эстетическом, так и в этическом аспектах. Для Жуковского сам образ-мотив воспоминания – ядро его романтической эстетики и этики [5] [Подробнее об этом см.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». – Спб., 1904, с. 249–253.]. В стихотворении «К портрету своему» он прямо скажет: «Воспоминание и я – одно и то же» (IV, 26). Поэт вводит это понятие в разряд «философии жизни». В дневниках можно найти многочисленные эссе о воспоминании. Дневниковые записи и поэтические размышления постоянно смыкаются. «Воспоминание есть двойник нашей совести» (XI, 23) – эта формула Жуковского развивает идею романтического двоемирия в психологическом аспекте. В мотиве воспоминания конкретизирована идея романтического преображения во времени. Связь времен и миров, «здесь» и «там» определяет систему романтических оппозиций в поэзии Жуковского и Батюшкова. Этот мотив – способ проникновения в тайны бытия, открытия невыразимого, «очарованного там» и вместе с тем отправная точка в становлении принципов романтического историзма. Другие стихотворения-дублеты, посвященные вопросам жизни и смерти, радости, веселью и горю, любви, очевиднее обозначают направление поисков двух первых русских романтиков. Все эти понятия и страсти оживотворяются, изображаются как мир душевной жизни личности, сфера творческой деятельности. Не случайно все эти мотивы органично переходят в послания и письма, где осмысляются как мировоззренческие категории. Происходит смыкание этического и эстетического в самом творческом процессе. Поэты импровизируют на заданные темы, и этот момент импровизации, живой, непосредственной реакции обогащает возможности поэтического слова, принципы психологического анализа. Обнажается этимология самого понятия «стихотворение» – творение стиха на глазах у читателя. Образ друга – соучастника творческого процесса входит в произведение. Сумятица чувств, экспрессия вопросительной интонации как выражение поиска и сомнений, обращение в свою веру – все это в произведениях Жуковского и Батюшкова связано с новым вероисповеданием: погоней за идеалом, созданием другого мира и тоской по нему, утверждением своего лирического героя, своей концепции жизни. Вот характерный пример: два перевода басни Лафонтена «Сон могольца». Эта басня-притча привлекла внимание обоих поэтов, видимо, по двум причинам: воспеванием уединения как источника счастья, творческой свободы и возможностью свободного полета фантазии, ибо большая часть басни бессюжетна: рефлексия на тему уединения. Переводы Жуковского и Батюшкова появились почти одновременно: в 1806 г. у Жуковского и на рубеже 1807–1808 гг. у Батюшкова. Жуковский, сохранив сюжетно-композиционную основу басни, сделал басню своей. Он написал свободную импровизацию по мотивам Лафонтена. Гимн уединению и поэтической свободе, составляющий у Лафонтена 21 стих, он довел до 27 стихов. Но главное – он насытил его новым настроением. Атмосфера заклинания, поиска выразилась в скоплении вопросов: «где ж счастье?», «где вы, мои поля?», «где ты, любовь весны? где сладость тайная? когда увижу вас? когда, когда и Феб и дщери Мнемозины придут под тихий кров беседовать со мной?» (I, 35). Возникает ощущение живого развития эмоции, своеобразной экзальтации чувств. Лексический строй стихотворения, принципиально отличающийся от лафонтеновского, поддерживает это эмоциональное состояние. «Лоно тишины», «забвение сует», «беспечность свободы», «сладкий дар природы», «тень уединения», «сладость тайная», «преобращу мою пустыню в храм» и т. д.– этот словарь перевода воссоздавал состояние творческого самоопределения. Батюшков словно переводит не из Лафонтена, а из Жуковского, или, точнее, по Жуковскому. То же насыщение перевода вопросительной интонацией, то же состояние элегической рефлексии, та же жажда самоопределения. Импровизация определяется самим состоянием «внушения»: «внушил бы я любовь к деревне и полям» (I, 48). Но при всей общности свободной переводческой импровизации стихотворения-дублеты обнаруживают своеобразие творческих индивидуальностей. «Ужели никогда не скроюсь в вашу сень от бури и ненастья?» «Блаженству моему настанет ли чреда?», «кто остановит меня под мрачной тенью?», «когда перенесусь в священные леса?» (I, 48) – все эти вопросы батюшковского лирического «я» в большей степени направлены не внутрь души, а обращены к бурям, ненастью, мраку окружающего мира. Идея самоусовершенствования, веры в духовное самосохранение придает концепции уединения у Жуковского более идиллический характер. Идиллии Жуковского, создаваемые на протяжении всей творческой биографии (правда, параллельно с «маленькими драмами» – балладами), – в этом смысле значимы мировоззренчески: идет поиск устойчивых ценностей, нетленных духовных благ. У Батюшкова уже в «Сне могольца» душе нет покоя и приюта. Идея бесприютности, отсутствия счастья в мире собственной души рождает трагические ноты. Утопия античного мира и эпикурейского мироощущения не гармонирует с миром собственной души: разлад и сумятица в ней, двойничество разрушают идиллию. Содержание романтического двоемирия обнаруживает точки соприкосновения и отталкивания двух поэтов. В их творчестве 1802–1810 гг. проверку романтизмом проходят важнейшие эстетические и этические понятия. Происходит становление романтизма как поэтической системы. 12-го мая 1810 г. Жуковский подарил Батюшкову свою записную книжку «Разные замечания» как залог их дружбы, тесных личных контактов. Эта книжка была введена в научный оборот Н. В. Фридманом еще в 1955 г. [6] [Изв. АН СССР. Отд. литры и яз., 1955, т. 14, вып. 4, с. 365–370.], а затем неоднократно привлекалась исследователями творчества Батюшкова. Через 30 лет в полном виде записи Батюшкова были опубликованы В. А. Кошелевым [7] [См.: Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии. – М., 1985, с. 177–188. Эта публикация позволяет представить характер записей поэта, но отсутствие в ней выписок Батюшкова из древних и новых поэтов не дает представления об общей структуре записной книжки.]. Но один интересный факт так и не привлек внимание ее комментаторов: двадцать страниц записной книжки заполнены Жуковским, его рассуждениями на различные темы (записи эти ни разу не воспроизводились и не привлекались). Жуковский вводит Батюшкова в лабораторию своих мыслей, психологических изысканий. Не имея возможности цитировать эти записи и их анализировать (нами подготовлена специальная публикация этого материала), замечу: размышления о природе человека, его страстях, воспитании, таланте, соотношении ума и чувства превращают двадцать страниц в маленькую энциклопедию психологических знаний и человеческих страстей. Записи Батюшкова в книжке интересны не только сами по себе, но и в соотношении с записями Жуковского. Диалог двух поэтов со страниц записной книжки переходит на страницы произведений. Послания друг к другу в 1812 г. в соотношении с «Моими пенатами», посланием, обращенным к Жуковскому и Вяземскому, намечают содержание этого поэтического диалога. В центре его – поиск устойчивых ценностей, стремление найти душевный покой. Послание Жуковского – призыв обрести пенаты, найти мир в своей душе. Хотя душа самого Жуковского в разладе, о чем свидетельствуют его письма и дневники, но его путеводец – вера в душевную гармонию. Все послание – выражение этой веры: «душа моя согрета влияньем горних сил», «душ алтарь», «верный обитатель страны духов поэт», «во все дух жизни влить», «сберечь души покой», «светит для души моей поэзии светило» и т. д. (I, 98– 105). Послание Батюшкова «К Жуковскому» – мольба о приюте, заклинание: «где странник я бездомный сыскал себе приют». В «Моих пенатах» поэт создает карточные домики, он с необыкновенной страстью формирует свою «домашнюю философию», но в послании, этом постскриптуме к «Моим пенатам», происходит разрушение созданного, отчаянье заполняет душу поэта:
Система антитез: приют-бесприютность; дом, пенаты – бездомность, странничество; покой-сумятица, измена – определяет размышления поэта о судьбе личности. Романтическая философия личности Жуковского и Батюшкова обусловила тип их миросозерцания: тяготение к целостности, универсализму мира у одного и ощущение трагизма, психологического расщепления – у другого. «Черный человек» уже является в мир Батюшкова. Романтическая оппозиция «домосед – странствователь», подспудно возникавшая во всем предшествующем творчестве поэтов; обнажилась в 1814–1815 гг. «Теон и Эсхин» Жуковского, «Странствователь и домосед» Батюшкова – ее наиболее полное и программное выражение. Сама оппозиция не нова. Достаточно вспомнить поэму Хераскова «Пилигримы», сказку Дмитриева «Искатели фортуны». Кстати, 7 мая 1810 г. датируется загадочная записка Жуковского к Батюшкову: «Приезжай ко мне часу во втором, я достал пилигримов – выберем, что нужно...» [8] [Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 год.– Л., 1984, с. 83 (публикация Р. В. Иезуитовой).] Но впервые это соотношение двух жизненных характеров осмыслено не просто как тип бытового поведения, но как тип мышления, философия личности. «Сон могольца» был точкой отсчета. В посланиях 1812 г. происходит обогащение и усложнение концепции героя. В письме Батюшкова к Жуковскому от 3 ноября 1814 г. дана как бы заявка на «Теона и Эсхина». Рассказывая о своей бесприютности («я сделался современным калмыком с некоторого времени; одни заботы житейские и горести душевные»), Батюшков прямо обращается к Жуковскому, которого называл «рыцарем на поле нравственности и словесности»: «Дай мне совет, научи меня, наставь меня ... будь моим вожатым! Скажи мне, к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную» (III, 304). Стихотворение «Теон и Эсхин», написанное 1–11 декабря 1814 г., в долбинском уединении, стало ответом на эту просьбу. Жуковский напоминает Батюшкову об устойчивом нравственном мире «моих пенатов». Не случайно сами образы «Моих пенатов» растворены в «Теоне и Эсхине»: «Эсхин возвращался к пенатам своим...»; «Теон при домашних пенатах...»; «На мирный возврат твой к пенатам...»; «...при мирных домашних пенатах...» (II, 80–81; подчеркнуто мною.– А. Я.). Этот образ объединяет героев, разъединяя их мировоззренчески. Говоря о состоянии разочарованного Эсхина («И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот лишь сердце его изнурили»), Жуковский вновь опирается на жалобы самого Батюшкова: «износил душу до времени» [9] [Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии. – М., 1985, с. 298.] и на слова из его послания 1812 г.: «Все, все прошло, как сон: Здоровье легкокрыло, Любовь и Аполлон!» Характерно, что первоначально произведение Жуковского имело другое название – «Абдала и Мирза» [10] [ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 78, л. 28.], но, конечно, сочетание восточного колорита и образа «пенатов» было бы противоестественным. Путь к античному антуражу выявил связь стихотворения с образным миром Батюшкова. Созданные в драматические моменты биографии поэтов, эти произведения стали не столько полемикой, сколько вероисповеданием, обоснованием своей жизненной позиции. Автобиографический подтекст речей Теона-домоседа Жуковского и Филалета-странствователя Батюшкова несомненен. Говоря о создании своей сказки, Батюшков писал 10 января 1815 г. Вяземскому: «Я описал себя, свои собственные заблуждения и сердца, и ума моего» [11] [ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 78, л. 28. с. 286.]. Произведение Жуковского – проповедь силы человеческого духа: «При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою», «Все в жизни к великому средство». Монолог Теона, составляющий и большую часть стихотворения, и завершающий его – утверждение веры, нетленных благ, возвышенных мыслей, стремления к великой цели. Слова:
звучат как ответ на просьбу Батюшкова: «дай мне совет...» У Батюшкова – разрушение идиллии. Непрекращающийся диалог, состязание странствователя и домоседа – выражение бесприютности, неуспокоенности. Драматизм и ирония («я сам над собою смеялся») определяют остроту романтического конфликта, столкновение двух миров и двух миросозерцании. Заявленные Жуковским и Батюшковым мировоззренческие типы обозначили дальнейшее развитие русского романтизма, психологическую природу его, своеобразную философию личности. Таким образом, стихотворения-дублеты Жуковского и Батюшкова обозначают определенные моменты-этапы их творческих связей. Романтическая система эстетических понятий в поэзии 1802–1806 гг., поиск романтических оппозиций в «Сне могольца», личные контакты, обмен посланиями и психологическая экзальтация 1810–1812 гг., мировоззренческий диалог и формирование романтической философии личности в 1814–1815 гг. – таковы важнейшие вехи, имеющие принципиальное значение как для истории русского романтизма, так и для изучения поэтики первых русских романтиков. |
|||||||