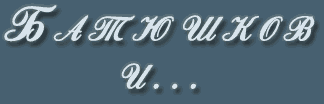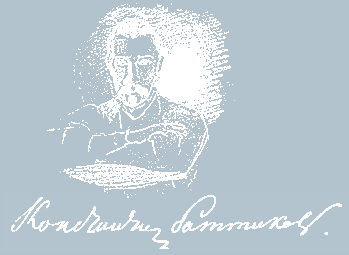
Титульный
лист |
Турбин В. Н. Преломление мотивов и художественных принципов К. Н. Батюшкова в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
|
||||||||||||||||||||||
|
Скромной книжке «Опыты в стихах и прозе» суждено было стать прологом к литературе XIX столетия, кратким конспектом ее. Батюшков и Грибоедов, Батюшков и Л. Н. Толстой, Батюшков и роман Гончарова «Обломов» – такие линии существуют в историко-литературной реальности, хотя они еще и не выявлены. В произведениях Батюшкова можно увидеть и проблески будущей «натуральной школы». Позволю себе высказать и сугубо предварительную догадку о соотносимости Батюшкова с самыми новыми, с сегодняшними явлениями русской поэзии, с экспериментами так называемых «концептуалистов»: выступать не с поэмами или романами, а с ... концепциями поэм и романов, предоставив желающим право свободно домысливать их, – эта кажущаяся причудливою программа уже была осуществлена выдающимся поэтом начала прошлого века, хотя, разумеется, «концептуалистом» он себя не считал. Доминирующим приемом в поэтике Батюшкова был ... тезис. Поэт мыслил тезисами, иной раз лишь слегка подтверждая их с натуры схваченной сценкой, бытовой зарисовкой, но чаще даже не стремясь их развить. Он составлял программу, план каких-то возможных высказываний, не догадываясь о том, сколь существенными могут оказаться эти высказывания в жизни будущих поколений. Классический случай развития поэтом последующих времен одного из тезисов Батюшкова – его размышления о Петре I, набросанный им живописный портрет императора, оглядывающего устье Невы, и начальные строфы «Медного всадника» Пушкина. «Эту страницу чужой прозы Пушкин, не обинуясь, переложил в стихи» – писал Михаил Гершензон* [Гершензон М. О. Пушкин и Батюшков. – В его кн.: Статьи о Пушкине. – М., 1926, с. 19]. Наблюдение Гершензона талантливо, оно обладает всеми преимуществами приоритета, однако оно требует и уточнений, поправок: если бы Пушкин просто переложил в стихи страницу чьей бы то ни было прозы, он не был бы Пушкиным. Нет, мы имеем дело не с переложением прозы в стихи, а именно с развитием тезиса, с конкретизацией схемы, конспекта, контура. Тезис умозрителен, и это не «хорошо» и не «плохо»: умозрительность – свойство тезиса, имманентно ему присущее. Ее можно принять таковою, какова она есть, но можно поступить и иначе: умозрительность никогда не удовлетворяет воспринимавших до конца; она делает высказывание, как говорится, сухим, она томит, и хочется восполнить присущую ей обнаженность мысли, облечь ее плотью. Оттого-то умозрительное мышление, мышление тезисами носит характер сугубо двойственный: оно возбуждает ум собеседника, стимулирует его к энергичной деятельности, хотя деятельность эта бывает направлена в первую очередь на своеобразное уничтожение умозрения, на преодоление умозрения живыми картинами. И тогда умозрение, тезис остаются как бы даже и не у дел: другой высказал несомую ими истину более развернуто, полно. Уделом умозрения в лучшем случае делается почтительное любование; оно становится подобием музейного экспоната. Иногда же о нем говорят с раздражением, как о чем-то не доведенном до конца, неполном. И забывают: именно умозрение, тезис породили образы, направленные на отрицание этих тезисов. Тезис рационалистичен, в этом его специфика и его из века в век повторяющаяся беда. В «Прогулке по Москве» Батюшков мог проронить: «Самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур. Какое обширное поле для комических авторов, и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды,» – так еще до войны 1812–1814 годов, до нашествия на Москву наполеоновских войск предначертываются комедии о Москве и прежде всего, разумеется, «Горе от ума» Грибоедова. Это тезис, всего лишь тезис, еще более сжатый, чем в случае с Петром I на берегу Невы. И, конечно, он окажется заслоненным, задвинутым целою вереницей последующих «московских» комедий, вплоть до комедий А. Н. Островского. Но он был. Он был высказан, выдвинут; и у истока комедий как бы то ни было оказался именно он, превзойденный этими комедиями, ими оттесненный, «убитый», хотя создателям их и неведомый: публикуется-то «Прогулка по Москве» лишь в 1869 году. «Похвальное слово сну» в окончательной редакции печатается в 1816 году, и лет сорок спустя, едва ли еще не при жизни Батюшкова или, по крайней мере, всего-то лишь через два-три года после кончины его, оно могло бы послужить своеобразным прологом к роману Гончарова «Обломов», внеся, кстати, необходимую долю ясности и в тогдашние, и в современные споры об этом романе, о его герое, явно односторонне оцененном Н. А. Добролюбовым. При всей ироничности «Похвального слова...» оно и очень серьезно; а главное, оно оказалось высказыванием-тезисом, которому выпала доля всех тезисов Батюшкова: литература последующих лет детально развила их, конкретизировала, ввела в новый социальный контекст. Реализм в лице Гончарова создал великий тип, несущий в себе неисчерпаемый потенциал нарицательности. Бегло очерченным героям Батюшкова далеко до его полнокровия; тем не менее, у истоков «Обломова» должен стоять именно этот поэт, сказавший много, но ничего не договоривший до конца, мыслей своих не развивший. Особенного внимания заслуживают фрагменты, собранные в заметках «Из записной книжки». Работая над «Войной и миром», Л. Н. Толстой не мог знать этих фрагментов, однако совпадение их с бессмертным романом поистине разительно. Батюшков припоминает один из своих разговоров с Н. Н. Раевским. Стиль разговора с этим признанным героем Отечественной войны непринужденен, это яркое выражение бытовавшей в кругах интеллектуалов-дворян causerie, болтовня, по выражению Батюшкова, «болтанье». Поэт воспроизводит суждения прославленного генерала: «Из меня сделали Римлянина, милый Батюшков, – сказал он мне, – из Милорадовича – великого человека, из Витгенштейна – спасителя Отечества, из Кутузова – Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа – не великие птицы. Обстоятельства ими управляли... Провидение спасало отечество». «Война и мир» да и только! И особенное сходство с трактовкой войны Л. Н. Толстым создается апелляцией к спасшему страну «провидению» – тем, что и поныне характеризуется как исторический фатализм писателя. А далее – забавная картинка: в разгар Бородинского сражения герой-полководец вовсе не шествовал в бой, держа в руке знамя и ведя за собою своих детей, как это утверждал стремительно сложившийся стереотип. Ничего подобного не было и быть не могло, все было проще, в какой-то мере все выглядело даже немного потешно, вплоть до того, что младший сын генерала во время исторической битвы «сбирал в лесу ягоды... и пуля ему прострелила панталоны...». И это – снова Л. Н. Толстой с его саркастическим отношением к батальной патетике, а кроме того, с его склонностью соположить войну и втянутого в ее горнило ребенка. Ни Батюшков, ни полвека спустя повторивший его Л. Н. Толстой не ставят под сомнение эпичность Отечественной войны; однако оба они делают эту эпичность незаметной, неброской, включая ее в какие-то другие художественные системы: один – всего лишь в ряд зарисовок-фрагментов, другой – в свои сложные историософские построения, противоречивые, но отнюдь не сводимые к однозначному фатализму. Тезисы Батюшкова могут содержаться в пределах одного художественного высказывания. Но каждое из таких высказываний в свою очередь оказывается тезисом, соотносимым с другим высказыванием. «Прогулка по Москве» и «Прогулка в Академию художеств» – в конце концов, оба эти очерка называют проблему, которая будет занимать лучшие умы в течение всего XIX столетия, проблему двух столиц, проблему соотношения Москвы и Петербурга, города-очага и репрезентативного города-официоза, демонстративно воздвигнутого на северо-западных рубежах Российской империи. Москва и Петербург – отправные точки полемики славянофилов и западников, два олицетворения, две гипотезы исторического пути России. У Батюшкова они явлены в равновесии, как сердце и разум, как тема и вариации в музыкальном произведении, в симфонии. И здесь-то открывается сфера его соприкосновений с творчеством Пушкина и, в частности, с романом «Евгений Онегин».
Эти, давно уже ставшие хрестоматийными, строки романа – прямое развитие Батюшкова:
Москва у Батюшкова, в его патриотическом, в трагическом послании «К Дашкову», – «отчизны край златой». Когда-то, в дни мира и трудов, как сказали бы мы теперь, в мирное время,
У Пушкина:
У Пушкина:
И снова – красноречивый эпизод, характерный для логики освоения Батюшкова поэзией последующих лет. У Батюшкова – общий контур: «зданья величавы», «башни древние». У Пушкина – совершенно реальный замок, тот, что и поныне стоит на Ленинградском проспекте. А в черновиках было и так, что в Москве оказался герой романа, Евгений Онегин. «Он ходит меж ноч(ных) огн(ей)», «он бродит» по Москве и
Архаично: не Годунова, а Гудунова. Но факт тот, что он совершает своего рода прогулку по Москве и видит он «башню древнюю». Описание Москвы Батюшковым и Пушкиным – случай, когда знакомство последователя с предшественником бесспорно и несомненно: широко известного патриотического послания Батюшкова Пушкин не мог не знать, а учитывая его непредставимую для нас могучую литературную память и склонность его к диалогу с ближайшим его поэтическим окружением, мы вправе увидеть в картинах Москвы продолжение Батюшкова. При этом Батюшков уточняется, и достаточно умозрительное словосочетание «край златой» сменяется как бы списанной с натуры картиной: «крестами золотыми горят» купола соборов. Но более того, Москва в изображении Пушкина резко разнообразится.
– скажет Батюшков. У Пушкина:
Дворцы и сады у Батюшкова, как видим мы, были. Но ни баб, ни мальчишек, ни, скажем, лавок быть у него не могло. Москва в романе Пушкина, стало быть, демократичнее, разнообразнее. Она пестра и национально («бухарцы»), и социально («купцы... казаки... мужики...»), и архитектурно («дворцы... лачужки...»). Поистине, энциклопедия русской жизни или, во всяком случае, крупный раздел ее, посвященный Москве. А создан он на основе страшного, апокалиптического стихотворения Батюшкова, и здесь, кстати сказать, предвосхитившего Л. Н. Толстого. Однако отношения Пушкина к Батюшкову в романе «Евгений Онегин» воспроизведенным эпизодом отнюдь не исчерпываются, хотя в последующей характеристике их предположительность интонаций исследователя должна все больше и больше усиливаться. Прогулка – времяпрепровождение поэта, вообще литератора, характерное для начала XIX столетия. Прогулка – миниатюризированное путешествие, а чего-чего, но уж путешествий в русской литературе в те годы хватало с избытком: путешествие полноправно соперничало с поэмой, с романом; создавались путешествия доподлинные и путешествия-фикции, путешествия-мистификации, когда путешественник, как это выяснялось в начале или в конце, и не думал выходить из своего кабинета, ограничиваясь чтением путеводителей, справочников и рассматриванием географических карт. Грани между путешествием и прогулкой в таких ситуациях откровенно стирались, миниатюрное заявляло о своем равноправии с грандиозным. К такого рода грациозным, но насыщенным большим содержанием миниатюрам относятся и «Прогулка по Москве», и «Прогулка в Академию...» Батюшкова: прогулка здесь интерпретируется как акт проникновенного самовоспитания, чередующий общение с людьми, с явлениями природы или с произведениями искусства и вдохновенное уединение. Но прогулка – перманентное состояние, занятие героев романа «Евгений Онегин». «Прогулки, чтенье, сон глубокий...» – таково времяпрепровождение героя романа в деревне. Жизнь его в Петербурге тоже едва ли мыслима без ежедневных прогулок, он же сызмала к ним приучен, ибо, как известно, еще гувернер его
Но и Татьяну трудно представить себе без мечтательных прогулок ее, а один из напряженнейших моментов ее духовной жизни, «открытие» ею сути Онегина, простодушное вторжение в его кабинет,– импровизация, типичная для прогулки:
Что происходит далее, слишком известно; но в данном случае важно выявить, выделить в романе существеннейший для него мотив, микроситуацию прогулки, чреватой неожиданными открытиями, а то и перерастающей в путешествие. Для Онегина. Да и для Татьяны тоже, ибо ее поездка в Москву – путешествие, ставшее для нее судьбоносным. Разумеется, мера и степень сопряженности выделенной мной микроситуации с творчеством Батюшкова очень и очень условны. Можно с уверенностью сказать, что герои романа Пушкина совершали бы свои прогулки и отправлялись бы в свои путешествия даже и в том гипотетическом случае, если бы Батюшкова вообще никогда не существовало на свете или если бы все его творчество, опять-таки гипотетически, от Пушкина было скрыто. Впрочем, тогда ... Тогда контакт с Батюшковым все-таки был бы, был бы так же, как был он у Гончарова и у Л. Н. Толстого, об оброненных Батюшковым тезисах явно не знавших. Батюшков гениально формулировал то, что впоследствии стало называться «социальным заказом»: он выражал назревавшие и назревшие потребности в стиле, в жанре, в трактовке событий, скажем, в трактовке Отечественной войны; а выполняться социальный заказ может и в тех случаях, когда исполнители и слыхом не слыхивали о том, что он тогда-то и там-то был сформулирован. Его может сформулировать и кто-либо другой, он может и просто принять форму идеи, которая, что называется, носится в воздухе. Батюшков стоит у истоков традиции пересмотра поэтики военного, батального эпоса. Но с проблемами эпоса он соприкасается и в своей «Прогулке в Академию...» И он снова формулирует социальный заказ на миниатюризацию эпоса, на придание ему интимного характера, на проекцию эпоса в индивидуальную, в частную жизнь; и на сей раз дело идет об эпосе уже не батальном, а самом что ни на есть мирнейшем. Путешествие всегда потенциально эпично. Идеалом путешествия навеки останется «Одиссея» Гомера, эпос, само название коего приобрело нарицательность. А прогулка? Прогулка – «Одиссея», уменьшенная до размеров случая из жизни одного человека; и такая, личная индивидуальная «одиссея» длится два-три часа. Она крохотна, незначительна; но при всей ее миниатюрности она сохраняет память об огромных, об эпических путешествиях. В «Евгении Онегине» есть «одиссея» Онегина. Есть, вероятно, и «одиссея» Татьяны, образ которой почти откровенно возводится к фигуре эпической верной жены, Пенелопы. Жизнь двух героев романа протекает между путешествиями и прогулками, прогулками и путешествиями; и в подобных преображениях эпоса продолжаются и конкретизируются художественные принципы, намеченные в творчестве Батюшкова. Многие современные Пушкину литераторы присутствуют в романе непосредственно, как таковые. Они названы по именам: так, скажем, названы Баратынский и Вяземский. Но не присутствует ли здесь также и Батюшков, хотя присутствие его латентно и косвенно? Запоздало, хотя и искренне влюбившись в Татьяну, Онегин
Романтическое сближение поэта с безумцем трагически реализовалось в бедственной жизни Батюшкова. Реальность выглядела намного непригляднее, прозаичнее умозрительного сближения. Пушкин воспроизвел эту реальность в известном стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума...» А в «Евгении Онегине»? Безумие – рядом с поэзией. О безумии говорится умышленно грубовато, шутливо; но этот стиль этически допустим: так позволительно отшучиваться от беды, от напастей и даже от смерти. «Мне писали, что Батюшков помешался: быть нельзя, уничтожь это вранье», – требует Пушкин в одном из интимных писем в 1821 году. В уже совершившееся безумие Батюшкова он не верит, и характерно, что стилистически, намеренно фамильярной грубоватостью тона и лексики, эти слова соответствуют репликам о несостоявшемся безумии героя романа «Евгений Онегин». Словом, присутствие Батюшкова в романе «Евгений Онегин» разностепенно. Соотносимость явленной здесь, воспрянувшей, как бы восставшей из пепла Москвы с катастрофической Москвой из послания «К Дашкову», хочется думать, бесспорна, хотя сугубо предположительна соотносимость с поэтикой Батюшкова и с его биографией других мотивов и приглушенных намеков типа отождествления поэзии с утратою разума. Но есть в отношении «Евгения Онегина» к творчеству Батюшкова и совершенно явное, четко просматриваемое; и здесь речь должна идти не об отдельных эпизодах, пусть даже и весьма впечатляющих, а о творческих принципах. Вклад Батюшкова в развитие русской культуры включает в себя и деэпизацию мышления, развенчание, развенчивание эпических стереотипов вплоть до стереотипа общенациональной войны с ее подвигами, утратами, ранами. Батюшков мог писать: «Любезный друг! Я жив. Каким образом – Богу известно. Ранен тяжело в ногу навылет пулею в верхнюю часть ляшки и в зад. Рана глубиною в две четверти, но не опасна, ибо кость, как говорят, не тронута, а как? – опять не знаю. Я в Риге. Что мог вытерпеть дорогою, лежа на телеге, того и понять не могу. Наш батальон сильно потерпел. Все офицеры ранены, один убит. Стрелки были удивительно храбры, даже до остервенения. Кто бы мог это думать? Но Бог с ними и с войной!» (Н. И. Гнедичу, Рига 1807 г. Июнь). Это типичная деэпизация, а точнее, может быть, демонополизация эпоса: эпическое показано изнутри, с изнанки, так, как это будет сделано у Лермонтова, в «Валерике», и опять-таки в «Войне и мире» Л. Н. Толстого. Такая же демонополизация эпоса – в письмах из Парижа, в элегиях о войне «Переход через Рейн» и «Пленный». В зарисовках Парижа, как и в зарисовках Москвы, активно и радостно присутствует быт – с мелочами его, которые не очень-то показаны эпосу. Эпос демонополизируется; но в то же время он ни в коем случае не изымается из художественного кругозора. Не отбрасывается. Батюшков сознает и эпическое величие Отечественной войны или основания Петербурга, эпичность Москвы. Он жаждет найти для эпоса какое-то новое место. Включить его в какую-то иную художественную систему. Но он не знает, в какую. Поэтому диалог с эпосом, пересмотр значения эпоса, уже утратившего первенствование в иерархии жанров, но еще не обретшего своего места в зарождающейся новой русской литературе, заканчивается у Батюшкова всего лишь... дружескими стихотворными посланиями, личными письмами, а то и просто отрывками из записной книжки. Задача поставлена, решение же ее фрагментарно и еще далековато от окончательности: выдвинут только тезис. Эту, если можно так выразиться, художническую заботу своего выдающегося предшественника разделяет и Пушкин. Но он находит для эпоса то место, которое принадлежит ему и поныне: он делает эпос элементом романа. Эпос в романе «Евгений Онегин», конечно же, сохраняется. Бытование эпоса в тревожном, полном неясностей, контроверз и нерешенных проблем мира романа – отдельная тема. И пока она будет выявлена, поставлена, решена, все-таки можно сойтись на том, что, во-первых, эпос в романе Пушкина есть, и что он, во-вторых, играет здесь почетную, но подчиненную роль. Пушкин отказывается от слишком явных, до грубости откровенных пародий на эпос, в частности, на «Илиаду» Гомера: они остаются за пределами окончательного текста романа, в черновиках. Но он неуклонен в стремлении к демонополизации эпоса. «Евгений Онегин» слагается как роман-симфония, в пределах которого достигается равновесие, гармония двух взаимопротивоположных начал: эпического и романного, поглотившего эпос, включившего его в свой состав. Остается сказать, что в наше время, на исходе XX века, задача, намеченная Батюшковым и решенная Пушкиным, являет собой уникальный пример художественного предвидения грядущих проблем мировой истории. Мы были свидетелями и участниками явления, которое поначалу не может не представляться некоей социальной диковиной: эпос вышел за пределы литературы, он стал феноменом общественной жизни. Приблизительно с конца двадцатых годов, более полувека, мы жили в эпосе, строя его и стилизуя реальность в соответствии с его эстетическими законами. Монополия эпоса была безраздельной, и лишь где-то в середине восьмидесятых годов наступило прозрение, следствием коего оказалось горькое, трудное и пока еще отнюдь не всеобщее разочарование в эпосе как в обязательной норме мышления и социального жизнестроительства. Мы входим в другой мир, в романный. Он полон нерешенных проблем, неожиданностей. Он принципиально плюралистичен. А эпос? Отбрасывать его начисто? Нет. Сохранить его? Да, но радикально пересмотрев его эстетические заветы, включив его в другую систему. Батюшков начал этот процесс. Пушкин стремительно его завершил. И оба они осуществили в поэзии то, что всем нам предстоит осуществить в социальной реальности. |
|||||||||||||||||||||||