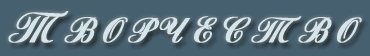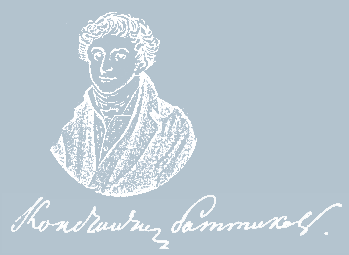
Титульный
лист |
С. Б. Рассадин
|
||||||||||||||
|
Пограничная ситуация – как известно, термин, утвердившийся в европейской философии XX века: человек обретает свою сущность, познает свое существование (экзистенцию) перед лицом катастрофы, гибели – физической, моральной, интеллектуальной. Говоря схематически, именно в этот момент выражается противоречивая структура бытия и самого человека (общества, государства, народа). Коли так, то судьба Батюшкова и есть воплощенная пограничная ситуация. Рубеж. Рубикон, разлившийся вширь на всю протяженность его творческой деятельности; такой Рубикон, в который можно только войти; перейти – не удастся. Не удалось. Поясним, для начала обратившись к тому, чьим предтечей и оказался Батюшков. «У Пушкина, – заметил Юрий Олеша, – есть некоторые строки, наличие которых у поэтов той эпохи кажется просто непостижимым:
«Кудри наклонять» – это результат обостренного приглядывания к вещи, несвойственного поэтам тех времен... Это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику».
Так Дон Гуан улещивает Дону Анну, продолжая:
Разве не похоже? «Черные власы на мрамор бледный рассыплете...» – и: «Пойдете кудри наклонять,..» А если так, то, спрашивается, зачем повторяться? Но ни Пушкин, ни его Дон Гуан не повторяются. Больше того. На протяжении этих кратких минут с Дон Гуаном произошло нечто для него необычное: искушеннейший соблазнитель вдруг полюбил. Надолго ли, уж тем более навсегда ли – трудно сказать; то есть можно, ежели проследить весь оставшийся путь Дон Гуана. До предсмертного мига, когда последним словом, слетевшим с уст, будет имя любимой: «Я гибну – кончено – о Дона Анна!» Так что действительно получается – навсегда. Итак, сравним. «Власы» – сказано в первый раз. «Кудри» – во второй. Пустяк? О нет, ибо общее, безликое слово сменилось живым и конкретным, конкретизирующим – не женщину вообще, но эту и только эту. Избранную. Вдумаемся! Происходит словно бы состязание двух разных поэтов. «Черные власы на мрамор бледный...» – отстранение любуется первый, отмечая этакий цветовой контраст. Второму – не до любования. Первый, говоря о слезах, проливаемых Донной Анной на мрамор плиты, выразится не без витиеватости: «…И окроплен любви ее слезами». Второму – не до того; он просто скажет: «плакать». Первый образ описателен. Он будто бы расчленен на несколько движений: «Склонившись тихо» – одна поза, «рассыплете» – другая. И т. д. Во втором образе все слилось воедино: плачущая женщина (а не «ангел», подобный прочим кладбищенским изваяниям) воспринята сразу, мгновенно, остро. Тут нет ни времени, ни охоты взывать к чувствам женщины, к ее тщеславию и сентиментальности, подставляя ей льстивое зеркало. Словом, второй из наших условных поэтов имел бы право сказать первому с укоризной: «Любовь не изъясняется пошлыми и растянутыми сравнениями», Да это и сказано. Пушкиным – Батюшкову. Не лично, хотя они были знакомы, почти приятельствовали, состоя в знаменитом литературном сообществе «Арзамас» (Пушкин – с прозвищем-псевдонимом Сверчок, Батюшков – Ахилл). Резкий отзыв – из пушкинских замет на полях батюшковских «Опытов в стихах и прозе», сделанных (около 1830 года) для себя и потому не стесняющихся в выражениях. То есть там много и такого: «Очень мило»; «Прекрасно»; «Прелесть». Но чаще: «Дурно»; «Пошло»; «Слабо». Даже: «Какая дрянь». И еще – точно те же слова, какими Пушкин оценил элегию, будто бы писанную его Ленским: «Темно»; «Вяло». Что же, по его категорическому суждению, «пошло и растянуто»?
А вот, напротив, и похвала – может быть, самая лестная из похвал, кем бы то ни было адресованных Батюшкову: «Звуки италианские! Что за чудотворец этот Батюшков!» И ради чего же так изменило своей придирчивости пушкинское перо?
Собственно, можно, отставив в сторону «ангела», образ, доступный и не успевшему преобразиться Дон Гуану, сосредоточиться на второй строке. Действительно – дивной. Но почему? Дело не в звукописи. Ведь в охаянной Пушкиным цитате она, быть может, еще более «италианская»: «Лилее белоснежной, взлелеянной...» И тонкость инструментовки, конечно, не только в пятикратном «л». В стихах спрятан музыкальный секрет: «лилея» аукается с «взлелеянной», лукаво имитируя их якобы корневое родство. Но это всего лишь секрет, а не чудо. Не чудотворство. Белоснежная лилея, безмятежная тень, цветущая невинность – все это банальности, «пошлости» (тогда это были синонимы), которыми поэт может изъясняться, если или пока его чувство не стало конкретным, личным, сугубо индивидуальным... Стоп! Уж не хочу ли сказать, что Батюшков не чувствовал – по крайней мере, так страстно и нежно, как преобразившийся Дон Гуан (а вместе с ним, выходит, и Пушкин)? Что он пользуется готовыми фигурами красноречия, как подобает скорей соблазнителю, чем влюбленному? Что ж, в смысле метафорическом можно сказать и так – да ведь и говорилось! «Певцом чужих Элеонор» назвал Батюшкова остроумец Вяземский, имея в виду героиню стихов француза Парни и таким образом упрекая певца-россиянина в том, что более поздний историк литературы Венгеров определит даже как «нерусский характер». Нерусский – значит... Какой? Чей? Французский? «Италианский»? Ни то, ни другое, хотя обе эти страны были батюшковской страстью – во Франции он уважал Просвещение, в Италии – искусство и античную древность. «Нерусский» – это, так сказать, недорусский. Русский, да не совсем, отчего тот же Пушкин имел резон выразиться пожестче, чем Вяземский. Вот стихотворение «Пленный»: «Он неудачен, хотя полон прекрасными стихами». Но разве прекрасных стихов, которых к тому же полным-полно, – мало? Мало! «Русской казак поет как трубадур слогом Парни, куплетами французского романса». Так с одной стороны. С другой же: «Это, – приговорит Пушкин уже элегию «Умирающий Тасс», – умирающий Василий Львович – а не Торквато». То есть упреки словно бы взаимоисключающие. То русская речь отдает французским романсом, то итальянский поэт XVI века напомнит Пушкину его дядю-стихотворца. Но на деле речь об одном и том же: о том, что мир, недоосвоенный личностью Батюшкова, предстает нецелостным, дробным, то таким, то сяким. «Главный порок в сем прелестном послании, – будет настаивать Пушкин, говоря уже о стихотворении «Мои пенаты», – есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни». И, правда: «А вы, смиренной хаты и Лары и Пенаты!»... Домашние божества античности – в хате?! Признаем: Пушкин чрезмерно строг, тем более в точности то же он мог обнаружить у своего друга Дельвига, поэта уже иного, чем Батюшков, поколения: «Ветер холодный, бушуй вкруг хаты Лилеты прекрасной...» Но главное: пушкинскую суровость провоцировал сам Батюшков; провоцировал теми стихами, что вызывали у его критика восхищение. Вот – на полях «Песни Гаральда Смелого»: «прекрасно». И – подчеркнуто то, что сочтено прекрасным:
И действительно, подчеркнутое – уж точно не «вяло», не «пошло», не «темно». Волна названа не «хладной», не «бурной» – она названа «соленой». Это реальное ощущение реального человека, плывущего средь реальных волн: они брызжут ему в лицо, и он чувствует на губах соль. А «я черпал их шлемом; работал веслом» – опять-таки действия подлинного человека в подлинных обстоятельствах; не то, что в соседних строчках. Там говорится как будто о том же, но – не так. «Темно». «Вяло».
Все то, что Пушкин бранил в батюшковских стихах, не было частными недостатками отдельного поэта. Это было тем, чего до него русская поэзия в целом еще не умела, чему пока не научилась, к чему она – как раз в лице Батюшкова, его усилиями – только шла. Рывками, прорывами, озарениями. А хвалил, значит, Пушкин Батюшкова за то, чему научился сам? Вот это – нет. Не стоило бы так восхищаться, возводя предшественника в сан чудотворца, если бы ты умел точно то же. В том-то и дело, что «любви и очи и ланиты» (и иное, подобное) – это Батюшков, только он, именно он. Батюшков, воплотившийся всего лишь в трех полнозвучных словах настолько полно, насколько возможно, и воплотивший себя самого, никого иного. Просто здесь он свершил то, чего ждал от русской поэзии Пушкин. Только что – вспомним – нам внятно сказали о достоинствах некоей женщины, четко их перечислив: «Нрав... дар слова... вкус...» – и вдруг прервался этот перечень. Вдруг родилось алогичное словосочетание, не боящееся звучать даже несколько косноязычно и сказавшее уже не о том, чем вообще хороша эта достойная дама, но чем и как прекрасна она с тонки зрения любящего. Да и сам любящий живет в этих словах. Мы его ощущаем – буквально. Слышим, как заворожено вибрирует его голос в строке, состоящей почти из одних «и»: «любви и очи и ланиты». Почти видим, как желание рассказать о прелести женщины резко сменилось желанием эту прелесть выразить. Не от сознания ли, что рассказать – невозможно? Следуя рассудительной интонации первой строки, надлежало, по-видимому, сказать о сиянье очей и о нежности ланит. Назвать их всеочевидные свойства, такие же, как «дар слова» и «тонкий вкус». Но на рассудительность уже не хватает терпения, чувство рвется на волю, выплескивается – его уже не перескажешь, не исчерпаешь речью, доступной и прозе. Не заменишь даже выражением, синтаксически более стройным, попросту более правильным: «ланиты и очи любви». Или тем более той формулой, что вполне согласна с правилами грамматики: «очи и ланиты, исполненные любви». Что выйдет? Строка-ублюдок. В чем дело? Искать и множить ответы – возможно. Ответить – нельзя: иначе, что ж это было бы за чудотворство? С нас достаточно и того, что отметим удивительный парадокс: чем субъективней, чем индивидуальней проявляется личность поэта (не просто воспринимающая мир, но способная сделать его как бы частью себя), тем объективней, реальней, реалистичней этот мир предстает. Он – обжитой. Познанный. Названный. «...И Гела зияла в соленой волне». «Любви и очи и ланиты». Подлинное море. Подлинная нежность. Ах, если бы вся поэзия Батюшкова, не только лучшая – впрочем, немалая – часть ее стала такой! А он так хотел, чтобы – стала. Честолюбие было огромным, сознание своих сил – ясным. «...Ты говоришь: не писать – не жить поэту. Справедливо! Но что писать? Безделки. Нет! Писать что-нибудь важное, не для минутного успеха, а для себя. Ничего не печатать для приобретения известности. Иметь свыше цель. Славу. Обмануться. Так и быть! Но и обмануться славно». (Батюшков – Вяземскому, 1815 год.) При таком-то самоощущении – как понятен следующий рассказ: «Ему (Пушкину. – Ст. Р.) и восемнадцати лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию: «Редеет облаков летучая гряда», воскликнул: «Злодей! Как он начал писать!»... Быть может, воскликнув: «Злодей!», Батюшков смутно предчувствовал, что иные его стихи и обороты будут называться пушкинскими, хотя и явились раньше пушкинских». Пересказавший это Иван Сергеевич Тургенев ошибся в одном. Биограф Пушкина Анненков, вероятно, более прав, относя восклицание Батюшкова к посланию Юрьеву: «А я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, взращенный в дикой простоте...» Да, есть чему позавидовать (и – кто знает? – не стало ли это сознание добавочным толчком в развитии батюшковской болезни?). Да и Белинский скажет о сочинениях Батюшкова: «Это еще не пушкинские стихи; но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских». Хотя лучше всех выразится влюбленный в Батюшкова Мандельштам: дескать, тот – «записная книжка нерожденного Пушкина». Конечно, это поэт говорит о поэте, сосредоточив профессиональный взгляд на процессах, происходящих внутри их общего дела – поэзии. Нам, читателям, дозволено и дано смотреть поверхностнее и шире – видеть, к примеру, как внешняя биография Батюшкова (любовь, война, горе при виде разоренной Москвы 1812 года, дружество, путешествия, наконец, подступающее безумие) входит, преображаясь, в его стихи. Но если бы даже воспринять слова Мандельштама с чрезмерной буквальностью, как увлекательно читать «записную книжку», зная, что это – словно бы черновик и набросок самого Пушкина!.. Источник: Рассадин С. Б. Бедный предтеча / С. Б. Рассадин // Батюшков К. Н. Стихотворения / К. Н. Батюшков; сост., предисл. и послесл. С. Б. Рассадина. – М., 2000. – С. 7–17. – (Русские поэты.Серебряная серия). |
|||||||||||||||