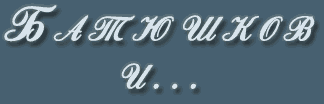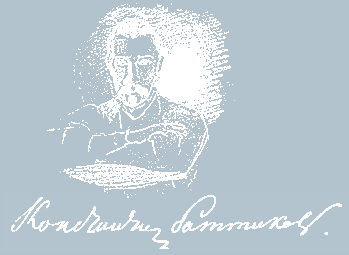
Титульный
лист |
Луцевич Л. Ф. К проблеме литературно-теоретических взглядов М. Н. Муравьева и К. Н. Батюшкова
|
||||||||||
|
Тщательному анализу подвергаются суждения поэта о литературном процессе его времени, план русской словесности, включенный в записные книжки «Чужое: мое сокровище!» [2] [Кошелев В. А. Творческий путь К. Н. Батюшкова. – Л., 1986.], выявляется все более широкий круг русских и зарубежных авторов, чьи эстетические взгляды и литературное творчество сказались на формировании Батюшкова-поэта, теоретика, критика [3] [Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты...» – В кн.: Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. – М., 1977. В дальнейшем тексты Батюшкова цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте статьи.]. В научной и биографической литературе неоднократно указывалось на то значительное влияние, которое имел на своего воспитанника известный поэт XVIII в. М. Н. Муравьев [4] [Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. Изд. 2-е.– СПб., 1896, с. 13–17; Томашевский Б. В. К. Н. Батюшков. М, 1948, с. XXVI.]. В частности, Л. И. Кулакова писала о «тесных непосредственных связях» между поэтами, для которых было характерно: «неприятие всякой мистики, языческое поклонение красоте... утверждение независимости художника... любовь к итальянской поэзии Возрождения, интерес к французской «легкой поэзии», постоянные размышления в стихах о поэзии и поэте, тема угасания дарования... обращение к одним и тем же жанрам...» [5] [Кулакова Л. И. Поэзия М. Н. Муравьева. – В кн.: Муравьев М. Н. Стихотворения. – М., 1967, с. 48. Тексты Муравьева цитирую по этому изд.]. Мы остановимся на рассмотрении одной из проблем, упомянутых исследовательницей, но практически не изученной в нашем литературоведении – на проблеме «легкого стихотворения», имеющей важное значение для понимания литературно-теоретических взглядов обоих поэтов. Общность основного предмета в таких работах, как «Послание о легком стихотворении» (1783) Муравьева и «Речь о влиянии легкой поэзии на язык» (1816) Батюшкова, очевидна, даже если исходить только из названий. Оба произведения по содержанию шире заглавий, так как затрагивают проблемы, существенные не только для «легкого стихотворения», но и для русской литературы в целом. В текстах Муравьева и Батюшкова выделяются: – проблема «легкой поэзии» как таковой и ее места в литературе, – проблема влияния «легкой поэзии» на развитие литературного языка, – проблема назначения поэта и поэзии в жизни общества, – проблема равноправия литературных родов и жанров, – проблема вкуса, – проблема мастерства писателя. Определяя содержание «легкой поэзии», поэты пытаются вписать ее в определенный круг литературных явлений. По мнению А. М. Бруханского, Муравьев практику «легкого стихотворения» разрабатывал успешно, а представление о теории имел самое смутное [6] [Бруханский А. М. М. Н. Муравьев и «легкое стихотворство».– В кн.: XVIII век. Сб. 4. – М.–Л., 1959, с. 163.]. Суждение резкое и не вполне справедливое. На наш взгляд, Муравьев в своем «Послании...» определил с возможной для 70-х гг. XVIII в. четкостью суть «легкого стихотворения» и более того, поставил и решил ряд существеннейших проблем развития русской поэзии. «Легкое стихотворение» тематически отождествлялось Муравьевым прежде всего с поэзией любовной. Называемый им круг авторов – творцов «легкого стихотворения» – невелик. Это, как правило, французские поэты Колардо, Дора, Берни, Пезей, Буфле – современники Муравьева, которых принято относить к представителям так называемой салонной поэзии эпохи «упадка». Что же привлекало русского автора в творчестве поэтов, далеко стоявших от магистрального пути развития французской литературы XVIII в.? Ведь он, как известно, прекрасно знал греческую, римскую, итальянскую, французскую литературы в высочайших проявлениях, а между тем в «Послании...» названы поэты второго и третьего ряда. Очевидно, его привлекало то направление, которое они представляли, а также то, что «легкая поэзия» в отличие от высоких классицистических жанров, культивировавших гражданскую, политическую, религиозную тематику, выражала личные, частные чувства, ставила в центр лирического стихотворения индивидуальное переживание, настроение и даже каприз. «Легкое стихотворение» проникнуто некоторым скепсисом по отношению к прежним нравственным идеалам, воспевает любовь, сладострастие, радость бытия. Муравьев вполне сознает, что деятельность названных им французских поэтов сиюминутна, то есть не выходит и никогда не выйдет за рамки своего времени и класса, однако экстенсивное распространение «легкого стихотворения» расценивает как позитивный фактор:
Обосновывая и утверждая право на жизнь «легкого стихотворения» в русской поэзии, Муравьев, как видим, отказался от традиционной для классицизма опоры на «образцы» давно прошедших литературных эпох, хотя ориентация на западноевропейскую поэзию по-прежнему имеется. Батюшков понимает «легкую поэзию» как один из труднейших литературных родов, требующий «возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности... истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях...» (9–10). Не удовлетворившись общим толкованием «легкой поэзии», Батюшков намечает пути ее развития на Западе и в России. Так, становление «легкого стихотворения» он связывает с именами греческих и римских лириков Виона (Биона), Мосха, Симонида, Феокрита, Анакреона, Сафо, Катулла, Тибулла, Проперция, Овидия. Эти поэты, наряду со знаменитыми эпиками и трагиками, были «увенчаны современниками». Поэзия древних особенно привлекает внимание русского поэта в 10-е гг. XIX в. своей противоположностью христианской лирике, где важнейшее место отводилось Петрарке [7] [Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии. – М., 1985, с. 144–154.] – «одному из первых создателей славы возрождающейся Италии» (10). Дальнейшее развитие «легкой поэзии» Батюшков связывает с «известным по эротическим стихотворениям» французским поэтом Маро, автором любовных стихотворений англичанином Валлером, немецким анакреонтикой Гагедорном. Все названные поэты – «предшественники творца «Мессиады» (Клопштока – Л. Л.) и великого Шиллера, спешили жертвовать грациям и говорить языком страсти и любви» (10). Значит, для Батюшкова, как и для Муравьева, содержание «легкой поэзии» определяется любовной тематикой. При этом необходимо указать, что любовь, по Батюшкову,– это чувство, которое способно «принимать разные виды», она имеет свой особенный характер в творчестве каждого поэта: «один сладострастен, другой нежен и так далее» [8] [Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии. – М., 1985, с. 145.]. Однако в процессе разработки темы в произведении проявляется не только авторская индивидуальность, но и общее миросозерцание, свойственное определенной эпохе. Так, древние поэты – «идолопоклонники», новые же, начиная с Петрарки, – христиане. И их философия любви заметно отличается от философии древних [9] [См. об этом: Сандомирская В. Б. К. Н. Батюшков. – В кн.: История русской поэзии. В 2-х томах. Т. I. – Л., 1968, с. 276.]. В России начало «эротической» (синоним «легкой» в «Речи...») поэзии Батюшков связывает с именами Ломоносова и Сумарокова, которые не только переводили Анакреона, но и ввели в русскую поэзию широкий поток античных реминисценций [10] [См. Савельева Л. И. Античность в русской поэзии конца XVIII – начала XIX века.– Казань, 1980, с. 5.]. Первым же «и прелестным цветком на языке нашем» поэт называет поэму И. Богдановича «Душенька», в которой древний миф о любви Психеи и Купидона превратился в шутливую сказочную поэму, полную игривых намеков, остроумных шуток, полуфольклорного балагурства. Произведение написано легкими стихами, в манере непринужденного разговора автора с читателем. Богданович отразился в своей поэме как певец прекрасного и гармонического. Особое место в истории русской «легкой поэзии» справедливо отведено великому Державину, любившему «в зиму дней своих... отдыхать со старцем Феосским» (10). Современный исследователь назвал «Анакреонтические песни» творческим подвигом Державина» [11] [Макогоненко Г. П. Анакреонтика Державина и ее место в поэзии начала XIX в. – В кн.: Державин Г. Р. Анакреонтические песни. – М., 1986, с. 265.]. Следует отметить, что в область «легкой поэзии» Батюшков включал не только анакреонтику, но и вообще малые лирические формы с интимно-личной проблематикой, то есть жанры, в которых заметную роль начинают играть образ автора как частного лица и воспроизведение чувства. Вот почему в историю русской «легкой поэзии» включены имена Дмитриева, Крылова, Хемницера, Карамзина, Капниста, Нелединского, Мерзлякова, Жуковского, Востокова, Долгорукова, Воейкова, В. Пушкина. Эти авторы, по мнению Батюшкова, «принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили» (13). Кстати сказать, это убеждение поэта вполне разделял впоследствии и Белинский, правда, упрекнувший Батюшкова в антиисторизме при оценке своих предшественников [12] [Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах. Т. VI.–М., 1981, с. 200.]. В отличие от Муравьева, статично включавшего русское «легкое стихотворение» в круг современной, хотя и периферийной западноевропейской поэзии, муссировавшей любовную тематику, Батюшков пытается наметить в своих исторических экскурсах (предварявших в некоторой степени в области формы будущие декабристские литературные обозрения) поступательное движение в русской лирической поэзии, его обзоры имеют направленность от прошлого к настоящему и отчасти к будущему. Батюшкову важно было показать закономерность возникновения «легкой поэзии» в России, при этом он исходил из того, что каждая национальная литература на определенном историческом этапе своего развития переживает период расцвета лирической поэзии (это положение призван подтвердить европейский экскурс). Русская литература, не являющаяся исключением в развитии мирового литературного процесса, должна стать одним из его звеньев, поскольку лирика уже достигла известных успехов. Поэт убежден, что появление и развитие «легкой поэзии» в России в XIX в. – это не подражание западным литературам, а явление, имеющее свою национальную традицию. Вот чем объясняется обилие имен русских поэтов в «Речи...», не имеющих на первый взгляд, непосредственного отношения к «легкой поэзии». Батюшков, так же, как и Муравьев, считает «легкую поэзию» порождением высшего света: «сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе, он образован из его явлений, странностей, предрассудков...» (13). По мнению поэта, общество благотворно влияет на творца, развивая в нем «людскость и вежливость», научает «говорить ясно, легко и приятно» (13). «Легкая поэзия» потому и является важным ресурсом в решении языковой проблемы, что «здесь... читатели требуют возможного совершенства» в композиции, стилистике, стиле. В произведениях эпических и драматических «неровности слога» могут компенсироваться за счет динамики изображения, значительности проблематики, острых конфликтов и сильных страстей, а в небольших лирических стихотворениях «красивость в слоге... нужна необходимо и ничем заменяться не может» (11). Гармония, соразмерность, красота – это «тайна, известная одному дарованию» (11). По убеждению Батюшкова, истинное искусство всегда трудно, оно «требует всей жизни и всех усилий душевных; надобно родиться для поэзии; этого мало: родясь, надобно сделаться поэтом...» (11). С решением проблемы создания универсального литературного языка, который бы удовлетворял и эпика, и лирика, теснейшим образом связана проблема назначения поэта и поэзии в обществе. Пожалуй, в творчестве Муравьева впервые в русской литературе и критике тема назначения поэта и поэзии поставлена наиболее остро [13] [См.: Корман Б. О. Кризис жанрового мышления и лирическая система (о поэзии М. Н. Муравьева). – В кн.: Корман Б. О. Практикум по изучению художественного произведения. Лирическая система. – Ижевск, 1978, с. 34.], и решение ее, безусловно, вышло за рамки литературного времени Муравьева. Любопытно отметить: положение о том, что общество способно оказать позитивное воздействие на поэта при овладении им легким разговорным языком, выдвинуто Муравьевым априорно. Батюшков, не считая нужным его доказывать, уже прямо пишет о том, что «большая часть писателей... провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности» (13). Этим, по мнению поэта, объясняется высокое литературное мастерство писателей XVIII в. Итак, тезис о положительном влиянии «света» на писателя теоретически разделяют оба поэта, однако, когда речь заходит о собственном жизненном и творческом опыте, наблюдается серьезное расхождение теории с практикой. Для Муравьева удивительным образцом, соединившим в себе качества светского человека и большой поэтический талант, является Вольтер: «Его приветствия не чувствуют писца, / Но просвещенного и тонкого маркиза» (220). Но лирический герой «Послания...» может только мечтать о таком синтезе, сам он иронически сетует на невозможность для него соединения «двух путей»: «чтоб стихотворцем быть и светским человеком». При этом возникает даже гердеровский «климатический» [14] [Климат как существенный фактор, влияющий на национальное своеобразие литературы, станет предметом особого внимания романтиков.] вопрос:
Но, оказывается, дело не в климате, «не в хладном воздухе», а в том, что в русском обществе господствуют нормы, законы и правила, совсем не способствующие развитию и культивированию творческой мысли: «Порядки общества суть мыслящему цепи...» Возникает новый для русской поэзии образ автора-творца, обнаружившего, что желаемое (мечта) входит в явное противоречие с действительным. Автор предстает перед читателем не как «пиит» вообще, говорящий от лица нации (так было у классицистов), а как отдельная личность, способная посмотреть на себя со стороны, склонная к рефлексии и самоанализу. Такое решение образа автора, на наш взгляд, предваряет романтическую концепцию творческой личности в ее взаимоотношениях с обществом. Муравьевская трактовка становится еще более интересной и значимой при сопоставлении ее с концепцией основоположника русского романтизма Жуковского, сформулированной в 1808 г. В статье «Писатель в обществе» Жуковский поставил вопросы, которые интересовали и Муравьева в 1783 г.: «почему писателю невозможно искать в обществе успеха? и звание писателя противоречит ли состоянию человека светского»? [15] [Жуковский В. А. Соч. в 3-х томах. Т. III. – M., 1980, с. 367.] Но решение этих вопросов, как ни удивительно, весьма обыденно и далеко от романтического: «Не думаю, – пишет автор «Людмилы»,– чтобы одно было неизбежным следствием другого [16] [Жуковский В. А. Соч. в 3-х томах. Т. III. – M., 1980, с. 368.], писатель, имеющий необходимое материальное обеспечение, вполне может быть светским человеком. Батюшков развивает муравьевскую идею о невозможности сочетания «двух путей». Еще годом ранее в статье «Нечто о поэте и поэзии» (1815) он писал, что «жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы – есть требование истинно суетное» (23). Здесь же выдвигается идея создания знаменитой «пиитической диэтики»: живи, как пишешь, и пиши, как живешь. В «Речи...» поэт повторит: поэзия требует всей жизни, всех усилий душевных. Никогда ранее русская поэзия не ставила так высоко поэта, не требовала от него полной самоотдачи. Батюшков идет дальше Муравьева не только по пути определения топики романтического творца, но и – что важно – связывает деятельность писателя с заботой «о славе отечества», «о достоинстве полезного гражданина», предвосхищая тем самым декабристскую трактовку темы. При этом образцом поэта и гражданина для Батюшкова является Муравьев. Именно ему дана самая развернутая характеристика из числа авторов, упомянутых в «Речи...». Муравьев в оценке Батюшкова – один из «гениев…, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики для разлития практической и умозрительной мудрости, для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером» (16). Муравьев, в представлении поэта, реализовал важнейшее: жил, как писал, «красноречивое слово» подтвердил «красноречивейшим примером». Батюшкову импонирует обширнейшая ученость Муравьева, основанная на знании древних языков, а также то, что «редкое искусство писать он умел соединить с искреннею кротостию, с снисходительностию, великому уму и добрейшему сердцу свойственною» (16). Образ наставника, старшего современника приобретает черты идеальной личности, полностью реализовавшейся в служении отечеству, в науке, творчестве. Существенное значение приобретает для обоих поэтов обоснование идеи равноправия различных литературных родов и жанров. Известно, что еще в эпоху полновластного господства классицизма А. П. Сумароков в «Эпистоле о стихотворстве» (1748) выдвинул положение: «Все хвально: драма ли, эклога или ода – / Слагай, к чему тебя влечет твоя природа» [17] [Сумароков А. П. Избр. произведения. – Л., 1957, с. 125.], которое, кстати сказать, получило распространение не только в теории, но и на практике. Однако западноевропейская классицистическая концепция жанровой иерархии настолько прочно утвердилась в литературно-эстетическом сознании конца XVIII – начала XIX вв., что проблема равноправия родов и жанров еще долго будет оставаться актуальной. Муравьев почти в самом начале своего труда выдвигает тезис о том, что поэты лирические не менее достойны славы, а значит, и памяти потомков, чем поэты эпические: «В Кифере более Гомера знаменит / Вздыхающий Мимнерм...» (218). И далее важную смысловую нагрузку в решении поставленной проблемы несет фрагмент, посвященный Вольтеру. Безусловно, Вольтера никак нельзя считать законодателем «легкой поэзии», хотя у него и есть произведения этого рода. Творчество великого француза соединило, по Муравьеву, «трагический полет» с «бренчанием на лире», сатиру с философствованием о «мире» и «мироздателе»; оно многогранно и разнообразно, подобно целой литературе. Муравьев дает своеобразное обоснование идеи равноправия литературных жанров и родов: как в творчестве Вольтера «легкое стихотворение», составляя одну из прекрасных граней его таланта, выступает вполне равнозначным по отношению к другим формам его художественного творчества, так и в литературе национальной лирическая поэзия имеет такие же права на существование, как эпическая и драматическая. Эта же мысль – утверждение самостоятельной роли и значения «легкой поэзии» – становится немаловажной и для Батюшкова, который также обращается к авторитету Вольтера (хотя имя не называет), приводя известный афоризм французского писателя о том, что «все рода хороши, кроме скучного» (14). Таким образом Батюшков выразил солидарность с Муравьевым и в этом вопросе. Обращаясь к проблеме вкуса, затронутой обоими авторами, напомним, что самое понятие его было введено в русскую эстетику классицизмом. «У художника может быть хороший или дурной вкус,– пишет современный исследователь В. А. Западов, комментируя представления классицистов,– и в зависимости от этого творец приближается к идеалу или безмерно удаляется от него, но сам факт существования единой нормы вкуса для всех людей, для всех народов, во все времена не вызывает ни малейшего сомнения ни у Ломоносова и Сумарокова, ни у Тредиаковского» [18] [Западов В. А. Проблемы изучения и преподавания русской литературы XVIII века. Статья 1-я. Русский классицизм. – В сб.: Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 2. – Л., 1976, с. 109.]. Муравьев же в понимании категории вкуса, безусловно, предваряет карамзинистов, утверждая: «Отличное чувствование – вкус – доставляет нам понятие о прекрасном. Он распространяет владычество свое над искусством» [19] [Муравьев М. Н. Полн. собр. соч. Т. 3. – Спб., 1820, с. 131.]. По сравнению с классицистами у Муравьева наблюдается принципиально иное наполнение категории вкуса: «В основе эстетического переживания – услаждение, эмоция, сладостное переживание добра, а не императив разумной нормы. В связи с этим меняется самое понятие вкуса как основы художественного творения и восприятия. Вкус – это для Муравьева безотчетное чувство» [20] [Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. – Л., 1938, с. 274.]. Батюшков также связывает вкус прежде всего с умением чувствовать красоту. Говоря о деятельности «просвещенного критика», поэт напоминает: «...каждое слово, каждое выражение он взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным» [21] [Ср.: Муравьев М. Н. Опыт о стихотворстве. – Полн. собр. соч. Т. 3, с. 136.] (11, разрядка наша – Л. Л.). Итак, «легкое стихотворение» обладает конкретной тематикой, имеет свое генезис и место среди других литературных родов и жанров, таким образом, задача показать –
– оказалась выполненной Муравьевым. Но в последней части «Послания...» автор вновь возвращается к ряду общих вопросов, что свидетельствует об их значимости. Муравьев дает ряд советов начинающим авторам, касающихся вопросов литературного мастерства. По его мнению, существует низкая («балагурить в стихах») и высокая («умствовать в стихах») поэзия. Причем разделение ее осуществляется не по жанрово-иерархическому принципу, а по идейно-эстетическому. Истинная поэзия не может быть «балагурством», «издевошным письмом», где, «не мысля о вещах, касаются их вскользь» (221), а изощренная форма («бедокурить двойными рифмами» (221) не спасет от «скуки», наоборот, лишь «удвоит» ее. «Балагурство» страшно тем, что «Под защищением словца / Проходят молнией пустые выраженья» (221–222). Настоящая поэзия, по Муравьеву, отвечает таким требованиям:
Как видим, положения, выдвинутые Муравьевым (соответствие формы содержанию, простота, логичность стиля, ясность слова) – классицистические. Поэт воспитывался, формировался на литературе классицизма, поэтому отринуть, отказаться, зачеркнуть ее он не мог. Он усвоил опыт предшествующей литературной эпохи и почувствовал его недостаточность. В сухие, общие формулы не умещался живой творческий поиск. И не случайно, прервав наставления, автор включает в текст фрагмент, имеющий личностный характер, где основным тоном по отношению к собственному творчеству становится иронический. Осознание несбывшихся надежд и желаний вызвало почти романтические сетования, не ставшие еще штампами, намечающие топику нового поэта:
В душе поэта живет мечта об истинной лирике, способной совместить в себе живописность и музыкальность: «Чтобы возвыситься, поэзия должна / Из живописи быть с музыкой сложена» (222). Автору необходимо обладать не только природным дарованием, но и высокой просвещенностью, а также бескорыстием, добротой, глубоким ощущением прекрасного. Интересно отметить, что все эти качества и свойства настоящего поэта, о которых мечтает автор «Послания...» составят основу образа Муравьева, созданного Батюшковым в «Речи...» Для литературного процесса XVIII в. было характерно стремление теоретически, критически осмыслить создаваемую новую поэзию. Истоки этой традиции обнаруживаются у Кантемира, Тредиаковского, а развитие ее можно проследить в творчестве Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Державина, Карамзина, других русских литераторов. Причем теоретическое обоснование осуществлялось как в сугубо научных трактатах, так и в стихотворных «наставлениях начинающим авторам», кстати сказать, вторые пользовались большей популярностью, так как сложные понятия облекались здесь в доступную форму, не лишенную при этом и некоторой художественности. Муравьев и вслед за ним Батюшков развиваются, следовательно, в русле традиции. Вместе с тем надо иметь в виду, что со второй половины XVIII в. русский литературный процесс резко усложняется. Мы не будем сейчас останавливаться на выявлении причин этого, укажем лишь, что бурное развитие поэзии, жажда со стороны поэтов как можно быстрее усвоить западноевропейские художественные достижения и при этом не утратить своего национального лица вели ко множеству экспериментов, частой смене (точнее сосуществованию) различных художественных методов, к взаимопроникновению и некоторому эклектизму составляющих их элементов, что нарушало чистоту литературных теорий и эстетических систем и что привело к непрекращающимся по сей день дискуссиям о характере русского классицизма, сентиментализма, романтизма. Муравьев, формировавшийся на классицистической литературе, к 70-м гг. ощутил явную недостаточность этого метода для выражения «пейзажа души», стал искать «свой путь» – им оказался предромантизм, попытку теоретического обоснования которого мы и наблюдаем в «Послании...», но остаточные явления классицизма сохраняются как в теории, так порой и в литературной практике Батюшков же сразу отказался от эстетики классицизма и, как нам думается, наряду с другими причинами объективного и субъективного характера, благодаря предромантическому настрою своего наставника, получил уникальную возможность формироваться сразу как романтический поэт, теоретик, критик. Между теоретическими суждениями Муравьева и Батюшкова, как свидетельствует сопоставительно-сравнительный анализ «Послания...» и «Речи...», существует тесная связь, при этом естественно, что общность постановки актуальных для развития русской литературы конца XVIII – начала XIX вв. проблем предопределила не только сходство, но и, как мы стремились показать, неадекватность их решения. |
|||||||||||