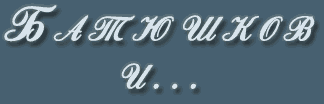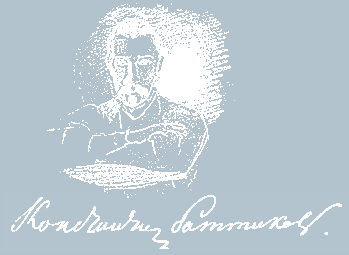
Титульный
лист |
Лебедева О. Б. Творчество Ф. Шиллера в восприятии и переводах К. Н. Батюшкова
|
||||||||||||||||
|
Всеобщее увлечение русской литературы Шиллером на разных стадиях становления романтизма было очень разным по своему эстетическому наполнению. Это «Гимн к радости» для Карамзина и сентименталистов, драматургия «бури и натиска» для Дружеского литературного общества, исторические труды Шиллера и его исторические трагедии для Гнедича и декабристов, психологическая проза, баллады, историческая драма и элегическая лирика для Жуковского, философская и историческая элегия для романтиков 1830-х гг. и т.д. [1] [См. об этом: Данилевский Р. Ю. Шиллер и становление русского романтизма. – В кн.: Ранние романтические веяния. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1972, с. 3–95.] «Идеальный» Шиллер, «благородный адвокат человечества» (Белинский), был неизбежен для русского романтизма. Поэтому особенную значимость приобретает то обстоятельство, что и К. Н. Батюшков, один из основоположников романтизма в русской литературе, практически прошедший мимо немецкого романтизма, тоже не оказался чужд всеобщему стремлению русской литературы к Шиллеру. Эволюция отношения Батюшкова к немецкой литературе и к творчеству Шиллера в частности намечена в литературоведении достаточно определенно: первоначальное негативное отношение сменяется в 1813 г. интересом и сравнительно систематическим знакомством [2] [См., напр.: Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971; Сочинения К. Н. Батюшкова. Ст. и прим. Л. Н. Майкова и В. И. Саитова. Т. 2. СПб., 1885, с. 405–407, 490; т. 3. СПб., 1886, с. 599, 707; Батюшков К. Н. Полн. собр. стих. (Б-ка поэта. Б. серия). М.–Л., 1964, с. 296.]. Если в 1807 г. Батюшков пишет Гнедичу: «Я теперь в Риге, царстве табака и чудаков: немцев иначе называть и не можно. Если меня любишь, то выполни мою просьбу: принеси на жертву какую-нибудь трагедию Шиллера. Я немцев более еще возненавидел» [3] [Здесь и далее тексты Батюшкова цитируются по изд.: Сочинения К. Н. Батюшкова. Прим. Л. Н. Майкова и В. И. Саитова. Т. I –III. Спб., 1884–1888, с указанием в тексте тома – римской, страницы арабской цифрой, в скобках после цитаты.], то в 1913 г., во время пребывания в Веймаре, Батюшков увлекается немецким языком и литературой. «Знаешь ли мою новую страсть? – пишет он сестре в ноябре. – Немецкий язык. Я ныне, живучи в Германии, выучился говорить по-немецки и читаю все немецкие книги; не удивляйся тому. Веймар есть отчизна Гете, сочинителя Вертера, славного Шиллера и Виланда» (III. 245). Любопытно, что Батюшков считает необходимым особо отметить изменение своего отношения именно к Шиллеру – очевидно потому, что его ближайший друг Н. И. Гнедич в ранней молодости был поклонником Шиллера, и Батюшков, как об этом свидетельствует цитированное выше письмо, довольно резко расходился с ним во мнениях. В 1913 г. состоялось «примирение» Батюшкова с Шиллером, о котором поэт сообщил Гнедичу в письме от 30 октября (III, 239). И с этого момента имя Шиллера начинает периодически мелькать в письмах и статьях поэта. В «Путешествии в замок Сирей» картина военного ночного бивака напоминает Батюшкову «Валленштейнов лагерь, описанный Шиллером» (II, 72); в «Письме о сочинениях М. Н. Муравьева» поэт цитирует отрывок статьи Шиллера о Маттисоне (II, 83) [4] [Кстати, может быть, именно знакомством с этой статьей объясняется тот факт, что Маттисон – единственный, кроме Шиллера, немецкий поэт, представленный в переводах Батюшкова. Элегия «На развалинах замка в Швеции» обнаруживает несомненное знакомство Батюшкова с элегией Маттисона «Elegie in den Ruinen eines Bergschlosses».]; в речи «О влиянии легкой поэзии на язык» Батюшков называет Шиллера «великим» (II, 240). Однако думается, что и после «примирения» Батюшкова с Шиллером общее отношение поэта и к его творчеству, и к немецкой литературе осталось неоднозначным. С одной стороны, будучи поборником разностороннего чтения, Батюшков считает, что «не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гете, Шиллера, Миллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж, и что Москва сожжена – до сих пор сомневаются» (II, 339) [5] [Это перечисление корифеев немецкой словесности дополняется замыслом статьи о немецкой литературе. В записной книжке «Чужое: мое сокровище» (1817) в отделе «Что писать в прозе» Батюшков записывает «Что-нибудь о немецкой литературе. По крайней мере отдать себе отчет в том, что я прочитал» (II, 289).]. С другой стороны, Батюшков, видимо, склонен строго регламентировать творческие контакты: его явного неодобрения заслуживает преимущественное увлечение Жуковского немецкой литературой. «Жуковскому – мой поклон, – пишет он А. И. Тургеневу в июне 1818 г. – Утешьте злодея: скажите ему, что баллада из Шиллера прелестна, лучший из его переводов, по моему мнению; что перевод Иоганны мне нравится, как перевод мастерской, живо напоминающий подлинник; но размер стихов странный, дикий, вялый (...) Но Горная песня и весь IV нумер мне не нравятся. Он напал на дурное, жеманное и скучное» (III, 510). Таким образом, ознакомившись с тремя выпусками издания Жуковского «Fur Wenige. Для немногих», Батюшков явно выделяет шиллеровские переводы Жуковского [6] [Судя по перечисленным произведениям Батюшков ознакомился именно с 4,5 и 6-м выпусками «Pur Wenige. Для немногих». Их состав: № 4 – «Горная песня» (из Шиллера), «Деревенский сторож в полночь» (из Гебеля), «Лесной царь» (из Гете), «Летний вечер» (из Гебеля); № 5 – «Граф Гапсбургский» (из Шиллера); № 6 – «Орлеанская дева. Пролог» (из Шиллера).]. Но если баллада «Граф Гапсбургский» оценена однозначно высоко, то пролог «Орлеанской девы» – сложно, а «Горная дорога» – однозначно отрицательно. Переводы же из Гете и Гебеля удостоены трех нелестных эпитетов. При этом характерно, что Батюшков говорит о достоинствах перевода, никак не выражая своего отношения к самому подлиннику. Все это свидетельствует о том, что у Батюшкова были свои, иные, чем у Жуковского, критерии избирательности по отношению к творчеству Шиллера, которого он так явно выделил для себя из всей немецкой литературы хотя бы уже тем, что перевел два его произведения. Два перевода... Конечно, в сопоставлении с 34 переводами Жуковского из Шиллера, это немного. Но принципиальное значение их подчеркивается и тем, что это почти единственное обращение Батюшкова к немецкой литературе, и тем, что они в высшей степени функциональны как в поэтической, мировоззренческой системе Батюшкова, так и в русском литературном процессе. Батюшков, подобно Жуковскому, взял у Шиллера свое, оставив в неприкосновенности то, что было ему чуждо. Только свое это было для Батюшкова иным, столь же индивидуальным, как и то, что было у Шиллера своим для Жуковского [7] [О сходстве переводческих установок Жуковского и Батюшкова см.: Фридман Н. В. Указ. соч., с. 123–124.]. В самом общем плане можно сказать, что в подтексте обращения Батюшкова к творчеству Шиллера лежит сходное отношение к античности: неслучайно оба батюшковских перевода – и «Судьба Одиссея», и «Мессинская невеста» связаны с шиллеровскими опытами своеобразной модернизации античности, синтеза древних пластических форм с новым духовным содержанием [8] [См. об этом: Шиллер Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. М., 1955, с. 361–362.]. Для обоих поэтов античность – это и школа поэтического творчества, и нравственный урок, и идеал, и недостижимая гармония, которая разрушается от соприкосновения с современным миром, и, наконец – бытийно-философский аспект постижения современных проблем. Лучше всего этот тип эмоционального восприятия античности как совершенного в своей замкнутости и непроницаемости эстетического идеала передан стихотворением Шиллера «Античное – северному страннику», которое Батюшков не перевел, но которое удивительно близко его собственному томлению по античной гармонии:
* * *
Стихотворению Батюшкова «Судьба Одиссея» [10] [Стихотворение представляет собой вольный перевод антологической миниатюры Шиллера «Odysseus», выполненный в 1814 г. и опубликованный впервые в «Опытах в стихах и прозе» (СПб., 1817, с. 71).] литературоведческая традиция давно и прочно придает автобиографический смысл. «Судьба Одиссея» трактуется как выражение общественного разочарования поэта, возвратившегося из заграничного похода русской армии и как проекция его личной неустроенности, «охоты к перемене мест», тяжело осознававшейся самим Батюшковым [11] [См., напр.: Фридман Н. В. Указ. соч., с. 185–186; Данилевский Р. Ю. Указ. соч., с. 67; Кошелев В. А. Творческий путь К. Н. Батюшкова. Л., 1986, с. 33–34.]. Однако и объективные свойства этого перевода, своеобразие его поэтики, и некоторые факты переписки и творчества поэта, соотносимые с «Судьбой Одиссея», позволяют предположить в нем наличие более широкого содержания.
И в «Моих пенатах», и в послании Жуковского отчетливо выражено пространственное романтическое двоемирие: идеальный гармонический мир земного дома поэта у Батюшкова и небесный идеальный мир поэзии, фантазии, мечты и души у Жуковского равно противопоставлены реальным биографическим обстоятельствам поэтов [13] [Характерно, что оба послания написаны в период относительной оседлости поэтов: во второй половине 1811 г. Батюшков живет в Хантонове, а Жуковский – в Холхе и Муратове.]. Но если Жуковскому удается при всех перипетиях его судьбы в 1812–1814 гг. все же остаться «верным обитателем страны духов», то пространственное двоемирие Батюшкова претерпевает определенную эволюцию. Ее поворотный пункт – стихотворение «Судьба Одиссея», написанное Батюшковым в момент апогея его скитальчества, своеобразная антитеза «Моим пенатам». Для сравнения приведем текст стихотворения в подлиннике и в переводе:
Прежде всего, Батюшков характерно изменяет название шиллеровской антологической миниатюры: «Odysseus» Шиллера превращается у него в «Судьбу Одиссея». Центр тяжести сдвигается с личности героя на более высокий уровень соотношения личностных и надличностных сил. Этим стихотворению придается определенный бытийный смысл, соотносимый с универсальностью мотива Одиссеи в письмах. Батюшков вдвое увеличивает объем стихотворения (6 стихов у Шиллера, 12 – у Батюшкова), и соответственно удваивается каждая характеристика героя: «блуждая, бедствуя», «богобоязненный страдалец» – все это новации русского поэта, как и ряд оригинальных мотивов: стойкости и силы духа героя: «стопой бестрепетной», «не потрясли души высокой», мотив небесной кары, рока, подхватывающий название стихотворения: «рок жестокой», «чаша горести», «небеса карать его устали». Близкие подлиннику мотивы страданий Одиссея, ужасов скитальческой жизни и притягательности родного дома значительно усилены за счет введения оригинальных эпитетов. Собственно, все эти эпитеты принадлежат русскому поэту, ибо в подлиннике их почти нет. Но, пожалуй, самое интересное – это изменение времени действия на время повествования. У Шиллера каждый поворот скитаний Одиссея вводится глаголом настоящего времени несовершенного вида. От этого все стихотворение приобретает драматический смысл: действие разворачивается одновременно с восприятием. Батюшков втрое увеличивает количество глаголов и отглагольных форм (5–15), уже одно это как бы опредмечивает саму идею скитания. Но главное – прошедшее время и совершенный вид глаголов создают эпическую временную дистанцию между событием и повествованием. Вследствие этого все стихотворение приобретает эпический смысл, соответствующий тому субстанциальному аспекту, который вынесен в заглавие. Этот же обобщающий смысл усиливается синтаксической структурой перевода. Стихотворение Шиллера – синтаксический двучлен: первое предложение (4 стиха) описывает путь Одиссея на родину, второе (2 стиха) – его пробуждение и отчаяние. Такая структура соответствует природе элегического дистиха с его антитезой гекзаметра и пентаметра, от которого Батюшков отказывается в своем переводе, выполненном вольным ямбом. И синтаксическая структура батюшковского перевода усложняется – она выдержана по законам классической триады: тезис (6 стихов, описывающих скитания Одиссея), антитезис (5 стихов, построенных на анафоре «казалось–казалось» и повествующих о мнимом достижении цели) и синтез – последний стих. И для шиллеровской миниатюры «Odysseus», и для батюшковской «Судьбы Одиссея» очень важен ассоциативный контекст, в который входят эти произведения. Шиллер написал свое антологическое стихотворение в 1795 г. Среди произведений этого года отчетливо выделяется своеобразный несобранный цикл стихов, связанных общей формой (элегический дистих) и общими мотивами скитания в пространстве и времени, памяти, соотношения прошлого и настоящего. Кроме «Одиссея» в него входят такие стихотворения, как «Сеятель», «Купец», «Зевс Геркулесу», «Карфаген», «Иоанниты», «Колумб», «Певцы прошедших времен», «Помпея и Геркуланум», «Античное – северному страннику» и пр. При разнообразии жанровых форм этих стихотворений (от надписи до исторической элегии) все они имеют общую сферу подобия и жанрового тяготения. Это своеобразная форма творчества, в которой синтезируются античная пластика и современная духовная, психологическая и дидактическая проблема. Сам Шиллер называл эту форму «ксения». Ассоциативный контекст «Судьбы Одиссея» разрушает природу шиллеровского морально-дидактического антологизма. После написания «Судьбы Одиссея» мотив продолжает активно функционировать в бытовом и творческом сознании Батюшкова, но уже в том субстанциально-философском смысле, который придан ему переводом. Мотив Одиссеи применительно к своим заграничным переездам и скитаниям периодически появляется в письмах Батюшкова 1813–1814 гг. Однако подробно он развернут в письме Жуковскому от 3 ноября 1814 г., когда Батюшков был уже в Петербурге. «Разве ты не знаешь, что мне не посидится на месте, что я сделался совершенным калмыком с некоторого времени, и что приятелю твоему нужен оседлок (...). Вот моя Одиссея, поистине Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня – Скука» (III, 303–304). Здесь мотив странничества выступает в своем субстанциальном аспекте и начинает осознаваться как проклятие судьбы. Если в ранних письмах его трагизм умерялся образом дома, то в письмах 1814–1815 гг. обнаруживается тенденция к универсализации своей участи: характерно возникающее «мы», «каждый из нас» проецирует судьбу Батюшкова на судьбу его поколения в целом. Мотив Одиссеи, бесприютности, скитальчества организует эстетико-мировоззренческую концепцию и ряда поздних, программных произведений Батюшкова, содержащих переклички с его переводом из Шиллера. Это, конечно, сказка «Странствователь и домосед», над которой поэт работает в том же 1814 г. и в зачине которой как бы переписывает от первого уже теперь лица «Судьбу Одиссея»: «Все видел, все узнал – и что ж? Из-за морей Ни лучше, ни умней Под кров домашний воротился» (I, 207). Это «Элегия» (1815): «Есть странствиям – конец, печалям – никогда!» (I, 228) и «Умирающий Тасс» (1817): «Из веси в весь, из стран в страну гонимый, Я тщетно на земли пристанища искал! Повсюду перст ее неотразимый!» (I, 255). Таким образом, мотив странничества организует своеобразный «большой контекст» вокруг «Судьбы Одиссея». В этом контексте принципиально важна жанровая соотнесенность перевода из Шиллера с эпистолярной прозой и лиро-эпосом Батюшкова. Именно в этом контексте обнаруживается, может быть, основной смысл перевода – момент перелома в концепции романтического двоемирия поэта и момент перелома в его жанровой системе. Драматизм в сопряжении с эпическим тоном повествования и ассоциативная связь с лиро-эпическими жанрами выявляют иную, чем у Жуковского, природу трагизма в романтическом двоемирии Батюшкова. Лирический герой Батюшкова, образ которого в разной степени накладывается на личность поэта в «Моих пенатах», «Судьбе Одиссея», «Странствователе и домоседе», «Элегии», «Умирающем Тассе», оказывается принципиально внеположным любому из двух миров – миру житейских бедствий и миру идеала, который перестает быть таковым в момент его достижения. Характерным комментарием того, насколько хорошо поэт сам осознавал эту особенность своего мировоззрения, могут служить его настойчивые рекомендации Жуковскому оставаться в пределах той «поэтической земли», которая для него самого недостижима: «<…> милый друг, если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что сделал Карамзин: он избрал для себя одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений: тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной (своеобразный перифраз «Раздела земли» из послания Жуковского.– О. Л.). Ты имеешь талант редкий, избери же землю, достойную его» (III, 357). Трагизм мироощущения, антиномичность и двойственность мирообраза в «Судьбе Одиссея», обнажающие глубинный драматизм как подоснову поэтики Батюшкова, предвещают следующий ход его творческих контактов с наследием Шиллера. * * *
Первые свидетельства интереса русского поэта к драматургии Шиллера относятся все к тому же 1813 г.: «примирение» Батюшкова с Шиллером состоялось в результате его знакомства с трагедией «Дон Карлос». Записная книжка «Чужое: мое сокровище» (1817) хранит еще один след постоянства этого интереса: Батюшков выписывает фрагмент из трагедии Шиллера «Смерть Валленштейна» (д. II, явл. III) в подлиннике и его же – во французском переводе Бенжамена Констана (II, 289–290). Этот фрагмент обнаруживает неизменность интереса поэта к субстанциальным проблемам человеческого бытия:
Здесь просто необходимо отметить, что через три года отрывок из этой же трагедии Шиллера переведет Жуковский, который именно в 1817–1820 гг. настойчиво ищет жанровую модель, наиболее пригодную для создания русской романтической драмы [16] [Публикацию отрывка см.: Лебедева О. Б. В. А. Жуковский – переводчик драматургии Ф. Шиллера. – Проблемы метода и жанра. Вып. 6. Томск, 1979, с. 140–156.]. Он найдет ее в «романтической трагедии» Шиллера «Орлеанская дева», перевод которой завершает в 1821 г. В этом же году Батюшков предпринимает перевод фрагмента из трагедии Шиллера «Мессинская невеста» [17] [О датировке перевода см.: Кениг Г. Очерки русской литературы. Пб., 1862, с. 94–95; Эта датировка обоснована в докладе А. Л. Зорина на Всесоюзной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения К. Н. Батюшкова (Вологда, май 1987 г.).] – и этот поразительный параллелизм еще раз подчеркивает единство путей, которыми шли первые русские романтики. Перевод Батюшкова из «Мессинской невесты» крайне характерен прежде всего как литературный факт, вскрывающий глубинные тенденции его собственного творчества и очень функциональный в русском литературном процессе. С одной стороны, он обладает типологическими чертами романтической драмы 1820-х гг., с другой – предваряет ее эволюцию в начале 1830-х. Эстетической содержательностью обладает уже сама фрагментарность перевода: русская романтическая драма начала 1820-х гг. существовала в основном в жанре сцен, фрагментов и прологов, исключая немногие произведения и переводы Катенина, Кюхельбекера и Жуковского [18] [Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия периода подготовки восстания декабристов (1816–1825). Куйбышев, 1968.]. Но типологически фрагмент Батюшкова отличается от фрагментарных набросков и переводов, скажем, того же Жуковского. Если последний переводит, как правило, отрывки первых явлений первых действий, сохраняя при этом очевидную оборванность действия, то Батюшков выбирает свой фрагмент из середины первого действия «Мессинской невесты». Поэтому его отрывок более подходит под то определение, которое давал этому сугубо романтическому жанру Ф. Шлегель: «Фрагмент, подобно небольшому произведению искусства, должен обособляться от окружающего мира и быть как бы вещью в себе, – как еж» [19] [Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934, с. 180.]. И отрывок Батюшкова, будучи фрагментом объективно по отношению к тексту всей трагедии, являет собою в то же время образец завершенной поэтики. Батюшков выбирает один из отрывков драмы, объединенный внутренним сюжетом и имеющий самостоятельное действие – сцену примирения враждующих братьев. Обособленность, ее замкнутость в себе выражена в том, что она не отражает смысла трагедии в целом, но противостоит ему по эмоциональному тону. Это единственный светлый момент очень мрачной, насыщенной гнетом роковых мотивов и ужасных страстей трагедии. Перевод Батюшкова обладает и рядом других формально типологических признаков ранней романтической драмы. Главный из них – белый ямб, правда, не пятистопный, который укрепился в русской традиции, благодаря метрическому новаторству Жуковского в переводе «Орлеанской девы», а четырехстопный. Не менее показательно стремление к синтезу древней формы античной трагедии с современным духовным содержанием – насколько Батюшков был здесь не одинок, свидетельствует трагедия с хорами «Аргивяне» Кюхельбекера. Обращение русских романтиков к формам античной трагедии объяснялось их стремлением ввести политические проблемы власти в содержание, а народные сцены – в структуру действия романтической драмы. И этот содержательный уровень обнаруживается в той драматической ситуации, которая составляет внутренний смысл батюшковского фрагмента. Его действие впервые обнаруживает непоправимый раскол народа и власти. Принципиальная чуждость этих сил подчеркнута уже у Шиллера не просто индифферентностью хора к судьбам героев (что невозможно в античной трагедии), а их прямой враждебностью. Как объективное свойство подлинника, эта ситуация сохраняется в переводе русского поэта. Хотя перевод Батюшкова из «Мессинской невесты» принято считать до конца не отделанным [20] [Эту точку зрения высказал еще П. А. Вяземский, опубликовавший перевод на страницах «Московского телеграфа» (МТ, 1828, ч. XIX, с. 34).] и очень близким к тексту подлинника [21] [Так перевод прокомментирован в издании Л. Н. Майкова (I, 374) и большинстве современных изданий.], все же определенные художественные тенденции и программные отклонения от подлинника просматриваются в нем четко. Их общее направление определяется тем, что перевод «Мессинской невесты» – одно из последних произведений поэта, соотносимых по времени создания с циклом «Подражания древним». Тем общим, что связывает последние произведения Батюшкова между собой, является антиномическая структура, ярко выраженная в «Подражаниях древним» в борьбе мотивов жизни и смерти. Антиномическая структура «Мессинской невесты» разработана чрезвычайно глубоко уже в подлиннике. Она не исчерпывается только естественной антиномичностью драмы как ее родового признака. Здесь и напряженность нравственного антагонизма героев, и противостояние героев и хора. Все это задано уже вариантом названия драмы – «Братья-враги». Эта изначальная антиномичность дополняется у Батюшкова рядом оригинальных мотивов. Основной прием поэтики в этом переводе – лексические оппозиции, которые оформляют концепцию расколотого мира и разрушенных естественных связей между людьми. В пределах одного стиха, одной реплики отрывка постоянно сталкиваются понятия-антонимы: смерть и жизнь, смирение и гордость, любовь и злоба, мир и война, вражда и домашний алтарь, властелины и рабы, друзья и враги, молодость и зрелость. Антиномии концентрируются и в образе огня, лавы, пожара, как символа бурных противоестественных страстей, буквально витающего над переводом. Все это создает картину взорванного миропорядка, чем-то напоминающую образ дисгармоничного мира, противостоящего человеку в «страшных» балладах Жуковского. Но принципиальное значение среди этих оппозиций приобретают три оригинальных мотива Батюшкова: смерти и жизни, слепоты и зрения и вырастающий из них мотив судьбы. Их концентрация в переводе предельно высока, а сам характер их антиномического противостояния удерживает от однозначной оценки мировоззрения Батюшкова, выраженного в переводе, как безысходно-трагического. Мотив борения жизни и смерти связывает «Мессинскую невесту» с циклом «Подражания древним» – «Без смерти жизнь – не жизнь <...>» Такого же рода ассоциативная перекличка – мотив небесной кары, властвующей над человеком: «Смиритеся, братья, есть на небе гром!» – «Плачь, смертный, плачь! Твое добро В руке у Немезиды строгой». И, наконец, идея судьбы и необходимости противостояния ей четко выражена в обоих произведениях. «Подражания древним»: «Не покидай руля, как свистнет ярый ветр»; «Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец» (I, 297). В «Мессинской невесте» эта идея реализуется в оригинальной антиномии слепоты судьбы и зрения, прозрения человека. Призыв «воззри, воззрите» настойчиво повторяется в тексте отрывка, поддержанный ремарками, отмечающими потупленные глаза братьев. Как только глаза поднимаются, отступает слепая судьба, восстанавливается разрушенная гармония:
Ясное зрение водворяет гармонию между хором и героями. Показательно, что из пяти реплик хора, содержащихся в переведенном отрывке, четыре Батюшков передает очень близко к тексту Шиллера, сохраняя отторженность хора от героев. Ср.:
В последней же, венчающей отрывок реплике хора Батюшков опускает два заключительных стиха, которые сохраняли отторженность хора от героев даже и в примирении, поэтому финал отрывка превращается в подлинный апофеоз естественных нравственных ценностей:
Тот же мотив опоры на нравственные ценности, утверждение их непреходящей сути находим в одном из последних стихотворений Батюшкова, записанном в альбом Жуковскому:
Таким образом, перевод «Мессинской невесты», так же, как и «Судьба Одиссея», включается в определенный контекст батюшковского творчества. Но если мировоззренческий и эстетический смысл «Судьбы Одиссея» обнаруживается в соотношении стихотворения с лиро-эпическими произведениями Батюшкова, то перевод «Мессинской невесты» концентрирует этот смысл более очевидным образом за счет преобладания в нем провиденциальных мотивов, лексически оформленных словами «судьба», «судьбина», «жребий», «небо», «жертва», «игралище страстей», «слепо», «слепой», «что будет» и т. д. И эта высокая концентрация слов, несущих эмоциональный ореол темы рока, враждебного человеку, думается, уполномочивает на вывод о том, что в античности, античном искусстве и его формах Батюшков видел не только пластику, гармонию и свет. Темное, роковое, враждебное человеку начало древнего мировоззрения не только видно было русскому поэту, но и привлекало его, о чем свидетельствует его непреходящий интерес к субстанциальным мотивам, выявленным в синтезе древнего и современного искусств. В этом отношении «Мессинская невеста», задуманная Шиллером как возрождение жанра древнегреческой трагедии рока [24] [О «Мессинской невесте» как о трагедии рока и о своеобразии категории рока в трактовке Шиллера см.: Шиллер Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. М., 1955, с. 357–362.] и переведенная Батюшковым с усилением этой грани ее содержания, выходит за пределы творческой лаборатории поэта по своей значимости. В контексте русского литературного процесса этот перевод предваряет следующий шаг в жанровой эволюции русской романтической драмы – расцвет жанра «трагедии рока» в 1830 гг. Значимость своеобразного среднего звена между историко-политической трагедией 1820 гг. и субстанциально-исторической 1830-х придает переводу Батюшкова и сам факт его публикации в 1828 г., в преддверии рассвета этого позднеромантического жанра. Батюшков остро почувствовал и предвосхитил в переводе «Мессинской невесты» субстанциальные мотивы русской романтической драмы, не актуальные для первой половины 1820-х гг., но существовавшие и в то время на периферии жанра [25] [Здесь можно отметить перевод трагедии З. Вернера «24-е февраля» М. П. Погодиным (1823), трагедию А. С. Хомякова «Ермак» (1825), дневниковые записи Жуковского 1820–1821 гг. о немецкой трагедии рока (Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903, с. 78–99).]. Так же, как трагедия Шиллера «Мессинская невеста» лежит у истоков немецкой «трагедии рока», перевод Батюшкова предвещает возникновение этого жанра на русской почве, появление в 1830-е гг. переводов трагедий Вернера, ранней драматургии Лермонтова (особенно выразительна в этой связи трагедия «Два брата»), юношеской драмы Белинского «Дмитрий Калинин» и расцвет провиденциальных мотивов в массовой романтической драме 1830-х гг. Подведем итоги. Обращение Батюшкова к творчеству Шиллера интересно тем, что оно, как это было и у Жуковского, наглядно обнаруживало подспудные тенденции развития его жанровой системы. Оба перевода из Шиллера обладают свойством своеобразной проблемной включенности в жанровую систему поэта. «Судьба Одиссея» в контексте связанных с этим стихотворением произведений Батюшкова обнаруживает тенденцию к укрупнению жанра от лирического к лиро-эпическому. «Мессинская невеста» в этом отношении еще более значима. Неотъемлемый признак мировоззрения Батюшкова, организующий поэтику и структуру многих его стихотворений – глубинный драматизм. Думается, что именно это явилось причиной особого пристрастия поэта к вольному ямбу с его нервным, резко перебивающимся ритмом [26] [См.: Матяш С. А. Метрика и строфика К. Н. Батюшкова. – В кн.: Русское стихосложение XIX в. М., 1979, с. 100.]. И ценность перевода «Мессинской невесты» лишь усугубляется тем, что это единственный драматический фрагмент, оформляющий в исконном родовом облике подспудный драматизм мировоззрения и поэтики Батюшкова. Эстетическая содержательность шиллеровских переводов Батюшкова – та же, что и смысл шиллерианства русского романтизма в целом. Это прежде всего индивидуальная модель «русского Шиллера», характеризующая творческий облик создавшего ее поэта. Это своеобразный индикатор, обнаруживающий на уровне индивидуального творческого метода глубокие закономерности литературного процесса в целом. |
|||||||||||||||||