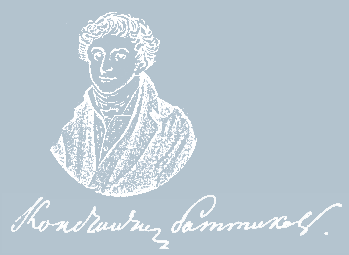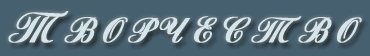|
Композиция «Элегия», охватывая бытие в полисах (война и мир), создает двуплановость цикла: лирический герой – современный человек, участник Истории, и в то же время странник, Одиссей. Соотнесение героя с Одиссеем обусловлено не только тем, что «Судьба Одиссея» – своеобразная идейная вершина книги, ключ к лирическому циклу (к этому стихотворению незримо тянутся нити от прочих, оно создает движение лейтмотивных тем в музыкальное партитуре книги). Ассоциации с Одиссеем заданы письмами Батюшкова, вне которых многое остается не объясненным в лирическом творчестве. «Одиссея» – образ жизни и концепция бытия («Мы подобны теперь Гомеровым воинам, растерянным по миру земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого – Марс, кого – Аполлон, кого – Венера, кого – Фурия, а меня – Скука» [Батюшков К.Н. Соч. в 3 т. Т.3. СПб., 1886. С.303-304]).
Сопрягая элегии, написанные под слиянием собственные наблюдений или являющихся плодом «памяти сердца», с другими, в которых «свое» постигается как «чужое» («Я тибуллю, это правда, но так, по воспоминаниям, не иначе» – Там же. С.149), автор «проверяет» героя, оказавшегося в тех же ситуациях, что и герои прошлого, включая тем самым частную жизнь отдельного человека в мировую Историю.
Выбор и расположение Тибулловых элегий, развивающих темы тоски по родине, любви и верности, тему Дома, подчинены определенной закономерности: они «задают» музыкальную тональность, отмечая повороты сознания героя. Смятенный дух героя «Элегии из Тибулла» мечется между полюсами любви и разлуки, между жизнью и смертью. Особенность элегического времени такова, что оно окрашено прошлым; грань между бывшим в реальности, воссозданным памятью, и грезой, мечтой настолько тонка, что одно кажется продолжением другого (греза, мечта, сталь же пластична, живописна, как картины памяти).
Тоска об утраченном, выливающаяся в заклинание, обращенное к возлюбленной, о верности, возвращает пришлое, материализованное как «сон в сне», сбывавшийся сон, снящийся обоим сразу (ему и ей). Словесный жест, торопящий Делию и ускоряющий течение событий, воспринимается как обращение к живой возлюбленной, присутствующей здесь и сейчас, что придает картине впечатление достоверности и сиюминутности происходящего.
Единство сменяющихся картин держится развитием мифологемы «нить жизни». В финале элегии судьба человека оказывается уже не в руках Парок, а в руках возлюбленной, от преданности и любви которой зависит жизнь и смерть возлюбленного (Делия ассоциируется с Пенелопой, ткущей в ожидании супруга: для античности Пенелопа – символ верности, Дома).
Напряженность второй элегии (III из III книги) создана обыгрыванием антитезы любовь – разлука, где призрачности земного богатства противопоставлена реальность «соломенного крова», под которым герой счастлив со своей возлюбленной. Размыкание круга (круг здесь ассоциативный принцип композиции) происходит в финале, где осуществляется выбор героя, готового принять смерть как избавление от жизни, в которой не суждено обрести утраченную возлюбленную (веретено Парок: крутящееся в другую сторону – символ неправедной судьбы).
Третья элегия (XI из книги), развивая мотивы предыдущих, где беды человека объяснялись катастрофичностью бытия, ужасам войны противопоставляет, мирное существование как идеал. Логика элегии в которой совмещены два состояния – ощущения постоянной опасности от натянутой тетивы и успокоенности человека, прошедшего через испытания войны, изменившегося в этих испытаниях, ведет к признанию выстраданного идеала – философии «тихого счастья». Развернутое описание картин смерти на войне (война обрисована как бегство от преследующей смерти: как ее ускоренное приближение, магическое вызывание из царства теней, что, согласно мифологической логике, несет смерть тому, кто ее окликает) венчает изгнание Марса.
В начале элегического цикла война представлена в героическом ореоле. Каменная книга, которую читает странник (лирический герой) в элегии «На развалинах замка в Швеции», развертывает перед ним историю северного края как героическое прошлое рода, воссозданное в ритуальной обрядности (проводы и завещание сыну, возвращение с победой и пир, где наградой победителю оказывается завоеванная вместе со славой невеста). Образ войны мифологизировал, переход в иной мир убитых обрисован как торжественный обряд, совершаемый богами, – Гелой.
Спор двух голосов (странника и автора, то совпадавших, то расходящихся), где призрачности славы противопоставлена вечность Истории, утверждает уважение к жизни и смерти, к «отеческим гробам», к бытию с его радостями и страданиями. Прием удвоения в финале (страннику вторит оратай) умиротворяет душевную смуту, переживанием которой держался сюжет. Так разрешается спор «ума» с «сердцем».
В «Воспоминаниях» героический ореол с войны снят. Элегия носит итоговый характер, кульминация ее – «оживление ужасной минуты», приведшей к перелому в сознании. Образ автора в элегии двоиться: он действующее лицо сюжета памяти и одновременно человек, находящийся за текстом, за кадром, за кулисами театра, оценивающий и комментирующий события (формулы, в которых заключены отточенные выводы, иллюстрируются картинами, полными боли). «Вечная черта» между прошлым и настоящим, пролегающая в душе, обозначается постепенно: в мирный пейзаж вплетаются немирные эпизоды, деформируя его (метафора войны – «медные челюсти грома»). Нарастающая динамика связана с невозможностью сразу описать ту минуту: погружение в прошлое обусловило эмоциональный взрыв, вызванный переживанием ужаса неминуемей смерти повторно. Переплывание Немана и достижение спасительного берега в контексте элегии осмысляется как смерть и воскресение (Неман ассоциируется с Летой, границей между миром живых и мертвых: вода – обязательный атрибут обряда омовения перед вступлением в иной мир: возвращение на родину становится возвращением из небытия). Выстраданный идеал «тихого счастья» отражает убеждение в ценности бытия.
Перелом в душе героя не только следствие катастрофичности бытия, но и результат «хладного опыта», что для него не менее катастрофично («Испытал множество огорчений и износил душу до времени» – письмо к Жуковскому. – Указ. соч. С.357), что отражено в символическом сравнении со странником, потерпевшим кружение и стоящим «бездны на краю» («Воспоминания. Отрывок»). Воспоминание становится для героя спасением, которое он обретает в любви, находя в ней путь к миру и осуществления гармонии с ним. Восстановление образа, таимого в душе «залога всего прекрасного», происходит, когда герой приглашает природу в соучастники (эхо, окликающее возлюбленную по имени). Не случайно, незавершенный финал элегии венчает утренний пейзаж, рисующий образ пробуждающейся природы, символизирующей душевное обновление героя.
В развитии любовной темы также важен момент перелома в душе. Симметрия элегии «Мщение», в которой герой переживает прошлое, окрашенное обидой настоящего, незатухающей болью, держится «вечным возвращением»: наказанием изменницы памятью, картинами мести, созданными в воображении. Симметрия оборачивается зеркальностью: жажда преследования, реализованная в мечте, ведет к затуханию остроты воспоминании. Смертельный час в финале элегии – испытание для обоих: это апогей мщения (чье сердце не дрогнет, услышав весть о смерти) и в то же время вершина духовности, победы героя над собой (прощение изменщицы).
Элегия «Тень друга», отмеченная «памятью сердца» и потому обнажающая скрытые страдания души, обращена к сюжету познания героем собственной души, ее тайн, осуществляемому через сон. Границы- сна отмечены событием (приходом и уходом тени друга); исчезновение тени в тот момент, когда герой посмел приблизиться к ней, совпадает с его пробуждением. Лирические напряжение монолога поддержано переживанием встречи, вызвавшей полярные чувства в герое («нездешний облик» друга побуждает стремление убедиться в его «материальности»). Возвращаясь в реальность, душа уже не может вернуться в прежнее состояние: бесконечная устремленность ее за ускользающим призраком оформляет незавершенный финал элегии. Сон выявляет давнюю тревогу души, ее боль, усиленную ассоциативной энергией образов-мифологем. Странствие по морю осмыслялось в древности как путешествие в потусторонний мир: гость, в соответствии с мифологической логикой, существо из потустороннего мира. Элегия очерчивает контуры мифа о Гальционе (ассоциации заданы упоминанием чайки в морском пейзаже). Древний миф оживает, повторяясь в судьбе другого человека, сближая прошлое и современность, мифологию и историю. Душа лиричен orа героя та же Гальциона, хранящая верность умершему другу. Сон-форма оживления мифа, переживание его в реальности собственной судьбы.
Композиция книги элегий, где взлеты и падения человеческой судьбы осмыслены в борьбе ума с сердцем, закономерно ведет к пессимизму, преобладанию этой тональности. Утверждая призрачность надежд на счастье, автор ведет читателя к признанию абсурдности бытия: «вечное возвращение» замыкает круг: осуществление мечты грозит духовной смертью. Трагизм возвращения в родные пенаты («Судьба Одиссея») в неузнанности родины, в необратимости времени, в изживании собственной души.
Автор настаивает на принципиальном признании невозможности обновления души, перечеркивая какие-либо надежды на «вечную жизнь» (символический выражением этого становится образ чужого, идущего мимо могилы певца любви, равнодушного к чужой трагической судьбе – «Последняя весна»). Хрупкость человеческого бытия уподоблена судьбе цветка. Эта символика, наращиваясь в параллелизме двух историй – девы и сорванного розмарина («Источник»), в мифологической реальности погребального обряда («На смерть супруги Ф.Ф. Кокошкина»), в метафорике цветения женской красоты («К другу»), развертывает образное воплощение темы гибельных сомнений сердца.
Логика книги элегий ведет к признанию мечты единственной ценностью бытия. Мечта для Батюшкова – богиня, муза, уводящая в иной мир, и олицетворение творческого состояния духа. Это чудный сон, арлекинада (в письме к Гнедичу Батюшков обмолвился о том, что Жуковский называет его «Мечту» «арлекином, весьма милым» (Указ. соч. С.150), театр воображения, в котором актер и главное действующее лицо лирический герой. Ценность мечты (это сближает ее с театром) в необъяснимости чуда. «Мечта», сопрягая две тенденции книги (к поэтизации и депоэтизации), уравновешивает их, охраняя душу от крайностей той и другой.
Источник: Козубовская Г. П. Элегии К. Н. Батюшкова: миф и театр/ Г. П. Козубовская // Традиции в контексте русской культуры : сб. ст. и материалов. – Ч. 1. – Череповец, 1992. – С. 79–83.
|