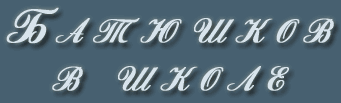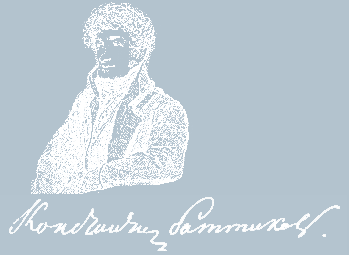
Титульный
лист |
В. А. Кошелев
|
||||||||||||||
|
Поначалу Батюшков прославился как раз своими «стихами к Лилетам и Нинам» – юный Пушкин в послании к нему назвал Батюшкова «Парни Российский», уподобив его нежные послания эротическим стихам француза Эвариста Парни, столь любимого в Царскосельском лицее. Белинский позже уточнил: «самостоятельная художническая муза Батюшкова борется с ложным французским направлением – и то побеждает его, то побеждается им». «Парни Российский», в отличие от Парни французского, изначально обнаружил в своем творчестве некую внутреннюю противоречивость. Он действительно выступил, во всяком случае в своих «довоенных» стихах, как певец молодости и сладострастия – и само слово «сладострастье» стало излюбленным в его лирике. Но, призывая сладострастие, Батюшков постоянно помнит о том, что все человеческие утехи – мимолетны и «минутны», а радость и любовь имеют обыкновение оборачиваться трагическими «развалинами» бытия. «Мы пили чашу сладострастья», – заявляет Батюшков в элегии «К другу» (1815). И далее:
Казалось бы, между сладострастием и печалью для поэта не существует ничего среднего: либо жизнь подавлена вовсе, либо протекает на высоте радостной напряженности. Двадцатый век, предоставивший людям возможность «ходить по гробам» в прямом значении этих слов, неожиданно оказался чуток к подобному мировосприятию. Обостренный интерес вызвала, например, основная деталь биографии Батюшкова. Он прожил долгую для XIX века жизнь: 68 лет (1787–1855). Но она роковой чертой разделилась на две «половины»: в возрасте 34 лет Батюшкова настигла «родовая» душевная болезнь – и остальные 34 года он находился в полутьме сознания, вдали от друзей и от творчества. Странной показалась та устойчивая «репутация», которая закрепилась за Батюшковым в историко-литературных штудиях: «...Без Батюшкова мы не имели бы Пушкина...» (Белинский). Через столетие эта формула была уточнена: «Батюшков, записная книжка нерожденного Пушкина...» (О.Мандельштам). Но и сама формула, и ее уточненный вариант не были лишены двусмысленности. Формула «предтечи Пушкина в поэзии» вызывала представление о Батюшкове как о своего рода «несостоявшемся Пушкине», чья историческая роль свелась к тому, чтобы подготовить явление «солнца русской поэзии». Академик Л.Н. Майков, блестящий знаток пушкинской эпохи, завершил классическую биографию Батюшкова (1887) следующим утверждением: «Художественная деятельность Батюшкова представляет собой счастливые начатки того, что получило полное осуществление в деятельности гениального Пушкина». Эта высокая оценка вольно или невольно сводит на нет собственные поэтические достижения Батюшкова: зачем горевать о поэте, так рано отринутом от литературы, если Пушкин-то состоялся? Ведь творчество Батюшкова в этом случае оказывается лишь «моментом перехода» от «до-Пушкина» к Пушкину... Единственная книга, которую Батюшков выпустил, – это два небольших тома «Опыты в стихах и прозе». Она вышла в 1817 году в Петербурге тиражом 1200 экземпляров. В первом томе собраны 15 прозаических статей и фрагментов, во втором – 65 стихотворений, впервые сведенных воедино из различных журналов и альманахов. Книга пользовалась огромной читательской популярностью (при жизни автора эти два тома были дважды переизданы), но она, в сущности, заключила в себе все основное, что Батюшков оставил: другие стихи, прозаические наброски, записные книжки и даже письма поэта выглядят лишь как «приложение» к этим двум томам. Книга сыграла значительную историко-литературную роль – но ведь после нее в русской поэзии были и Пушкин, и Лермонтов, и Некрасов, и Есенин... Между тем книга Батюшкова не случайно была названа «Опыты...». Это заглавие, восходившее к «Опытам» Мишеля Монтеня, любимого Батюшковым мыслителя, как бы указывало, что ее автор всегда пытался «опытным» путем создать нечто новое для своего времени... А может быть, и для времен будущих?.. Осип Мандельштам, всегда испытывавший особенный интерес к тому типу творчества, который был представлен Батюшковым, писал в 1923 году: «В русской поэзии первостепенное дело делали только те работники, какие непосредственно участвовали в великом обмирщении языка, его секуляризации. Это – Тредьяковский, Ломоносов, Батюшков, Языков, Пушкин и, наконец, Хлебников и Пастернак». «Обмирщение» поэтического языка Мандельштам понимал как постоянный процесс освобождения от внешних, книжных, «византийских» консервативных традиций. В выстроенном Мандельштамом ряду – два поэта середины XVIII века, два из «золотого века» 1820–1830-х годов, два из Серебряного века – Батюшков стоит несколько особняком. Действительно, если следовать этой логике, Батюшкову пришлось проделывать самое трудное дело в «обмирщении языка»: при помощи поэтической речи приспосабливать письменный язык к устному разговору образованного национального сообщества, знавшего в ту культурную эпоху нормы многих языков, – совершенствовать русский литературный язык в те времена, когда это было всего сложнее. Батюшкову это удалось. Афанасий Фет, вспоминая о годах своей учебы в университете, писал, что ему именно «после Батюшкова» было особенно трудно воспринимать велеречивые вирши последователей Ломоносова. А в начале XX столетия среди поэтов была распространена интеллектуальная игра: надлежало составить воображаемый сборник, включавший в себя ограниченное число (чаще всего 30) самых ярких, совершенных стихотворений русской поэзии. Сборники, составленные разными людьми, различались, но примечательно, что все они, почти без исключения, открывались стихами Батюшкова. Чаще всего самым характерным для Батюшкова признавалось стихотворение, написанное летом 1819 года на развалинах античного города Байя, близ Неаполя, частично затопленного волнами Тирентского моря:
В этой миниатюре важна не столько сама поэтическая мысль, сколько то, как она сказана, – сам способ ее выражения, ее блистательная форма и неподражаемая звукопись – все, приводящее к классической заключительной формуле абсолютной невозможности возврата: и никогда... не. Только Батюшков из всех поэтических «учителей» Пушкина обладал тем совершенством поэтического чутья, которое давало возможность в эпоху поэтического «безвременья» выставить требования «гармонической точности» и, главное, создать образцы этой «точности», восторженно принятые для себя поэтами-современниками. В этом смысле Батюшков совершенно определенно был оценен как «поэт для немногих» (Белинский). В XX веке эта формула была опять-таки уточнена: поэт для поэтов. Многочисленные «опыты» Батюшкова редко приводили к созданию совершенных художественных образцов и, как правило, были единичны. При этом они вызвали целый поток разного рода подражаний, продолжений, то есть быстро стали традицией, подхваченной многочисленными последователями. Единожды попробовав себя в жанре литературной сатиры (позднее названной «арзамасской») в литературной «шутке» «Видение на брегах Леты» или в жанре литературной пародии («Певец в беседе Славянороссов»), Батюшков более никогда к этим жанрам не обратился – зато стимулировал появление целого потока подобных произведений. Такими же единичными образцами, многократно потом повторенными многочисленными продолжателями, стали его антологические стихотворения («Вакханка», «Из греческой антологии»), историко-литературные элегии («Умирающий Тасс»), поэтические послания-манифесты («Мои Пенаты»), «военные» элегии («Переход через Рейн») и т.д. Еще показательнее в этом отношении проза Батюшкова, дающая простор для самых смелых аналогий. Тут и будущий «физиологический очерк» («Прогулка по Москве»), и первый в русской литературе искусствоведческий обзор («Прогулка в Академию Художеств»), и образцы «документальной» прозы («Воспоминания о Петине»), Тут и замыслы обобщающих историко-литературных исследований («Пантеон итальянской словесности»), «конспект» по истории русской литературы, и поиски – в записных книжках - нового типа художественного повествования. Именно представление о «поэте для поэтов» помогает понять те черты мировосприятия и личности Батюшкова, которые рождены его биографией. Поэт, сознательно избравший позицию «дилетанта», любителя, не связанного профессиональными условностями. «Поэт-воин», «поэт-скиталец» («Три войны, все на коне и в мире на большой дороге»), обращавшийся к художественному творчеству от случая к случаю. Поэт, открыто следовавший лучшим образцам европейской словесности и сознательно переосмысливавший эти «образцы». Поэт, избегавший крупных форм и ориентированный на «совершенные безделки», важные прежде всего в языковом отношении. Поэт, обладавший особенными возможностями эволюции, способный к мгновенным переходам от «светлого» мироощущения к «мукам сомнения и горечи отчаяния». Поэт, болезненно переживавший частые душевные и творческие кризисы, каждый из которых знаменовал начало его нового поэтического этапа. Поэт, сознательно отделивший свою индивидуальность от «всех обществ» и получивший вследствие этого отделения серьезные возможности для независимого движения. Новое осознание «поэта для поэтов» - привилегия прежде всего самих поэтов. * * *
В мае 1932 года Осип Мандельштам написал стихотворение «Батюшков», в котором ярко определился особенный интерес поэта XX века к тому типу словесного творчества, который был представлен Батюшковым. По композиции своей это стихотворение предстает как калейдоскопическая смена броских и сложных метафор и метонимий, не поддающихся однозначному логическому определению, а по внутреннему смыслу не может быть сведено к однозначной логической схеме. Основным принципом поэтики его становится принцип контрастной соподчиненности далеких по смыслу понятий и явлений, вполне соответствующий восприятию наследства Батюшкова XX веком.
Уже в первом стихе возникает расхожий образ «гуляки с волшебною тростью» – таким сам Батюшков воспроизвел себя в очерке «Прогулка по Москве». В одном из авторских вариантов было: «Словно бродяга с волшебною тростью...» – этот облик указывал на всегдашнее житейское «странничество» Батюшкова, ставшее образом жизни. По воспоминаниям Н.И. Харджиева, на стене комнаты Мандельштама в Доме Герцена, где поэт жил в 1932 году, висела репродукция автопортрета Батюшкова, а в его библиотеке было прижизненное издание «Опытов...» – и Мандельштам гордился: «Словно Батюшков сам дотронулся...». Свое стихотворение о поэте Мандельштам стилизует под самую известную «эротическую» элегию Батюшкова «Источник» (1809): соблюдается не только исходный размер (четырехстопный дактиль), не только почти полностью повторен ритмический рисунок, но и сам образ «нежного» поэта конструируется в рамках идеологии этой элегии:
Но тут же – странное изменение, которое иные комментаторы Мандельштама считают даже «опиской»: вместо батюшковской «Зафны» появляется мифологическая «Дафна». Кажется, просто созвучие имен... Однако имя «Дафна» весьма значимо для мифологии, подробно освещено в первой книге «Метаморфоз» Овидия. Так звали нимфу, которую полюбил Аполлон; он начал ее преследовать, а та, давшая обет безбрачия, взмолилась о помощи – и милостивые боги превратили ее в лавровое дерево; это дерево тщетно обнимал Аполлон, и именно потому в античной символике лавр стал священным деревом. Эту ситуацию Батюшков однажды вспомнил в стихотворении «Ответ Тургеневу» (1812):
Дафна, «суровая» нимфа, которая «сулит поэтам горе», прямо противоположна Зафне, «деве любви» из элегии «Источник»: «Дева любви, я к тебе прикасался, / С медом пил розы на влажных устах!..» Одновременно «нюхать розу» (символ любви и сладострастья) и «петь Дафну» попросту невозможно, и Мандельштам, глубоко сведущий в античной мифологии, не мог этого не осознавать. Но зачем в таком случае он заменил Зафну на Дафну, при том что ритмический рисунок его стихотворения все-таки ориентирован на элегию «Источник», где имя «Зафна» появляется в каждой строфе? Дело в том, что видимое противоречие организует всю последующую поэтическую мысль – все стихотворение наполнено антитезами и «странными сближениями»: «Ни на минуту не веря в разлуку, / Кажется, я поклонился ему: / В светлой перчатке холодную руку / Я с лихорадочной завистью жму...» Сцена встречи и рукопожатия исполнена противоречивых ощущений. «Разлука» – и тут же свидание. Холодный «поклон» – и чопорная «холодная рука» в светлой перчатке. И тут же «лихорадочная зависть» при рукопожатии двух поэтов из разных эпох. Она, так же неожиданно, сменяется усмешкой, а усмешка – благодарностью:
Это скопление разных чувств и ощущений, связанных с разлукой, встречей, завистью, усмешкой, благодарностью, – все это вместе приводит к «смущению». А «смущение» поэта становится своего рода оценкой: «ни у кого» из предшественников поэт XX столетия не смог отыскать той гармонии звуков, которую увидел в «говоре валов» знаменитого стихотворения Батюшкова: «Есть наслаждение и в дикости лесов, / Есть радость на приморском бреге, / И есть гармония в сем говоре валов, / Дробящихся в пустынном беге». Однако создатель этой гармонии все равно остается «косноязычным»: вероятно, это самоощущение любого настоящего поэта – всегда кажется, что можно бы сказать лучше, чем сказалось... А слова поэта закрепляются притяжательным местоимением «наше» и опять-таки определяются противопоставленными понятиями: «наше мученье и наше богатство». Далее эти антитезы еще нагнетаются: «оплакавший Тасса» (имеется в виду элегия Батюшкова «Умирающий Тасс») отвечает, что не привык «к величаньям». Между тем весь смысл батюшковской элегии заключается в изображении смерти поэта в момент его «величанья» на римском Капитолии... А фраза, произнесенная как бы «от лица» Батюшкова, намеренно взята из иной поэтической сферы: «стихов виноградное мясо» - так не мог выразиться поэт XIX столетия, это уже принципиально иная образность. Но эта образность оказывается новым «сигналом», определяющим смысл заключительной строфы: «Что ж! Поднимай удивленные брови / Ты, горожанин и друг горожан, / Вечные сны, как образчики крови, / Переливай из стакана в стакан...» «Удивленные брови» – деталь автопортрета Батюшкова, висевшего в комнате Мандельштама. То, что Батюшков назван «горожанином», может быть объяснено своеобразными историческими воззрениями воспринимающего поэта: Мандельштам все развитие культуры связывал с развитием «города»: именно город, начиная с античных времен, становился очагом культуры. Но что значит заключительный образ крови, которая переливается «из стакана в стакан»? В поэзии Батюшкова призыв к удовлетворению жизненных радостей символизировался «чашей светлого вина». Но эта же «чаша» присутствует и в Евангелии: ее выпивает Иисус Христос на последней «тайной вечере»: «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов» (Мф., 26: 27–28). Тело и кровь Христа, претворенные в хлеб и вино, восприняты христианством как своеобразная жертва: именно потому Иисус «повелел приобщаться бессмертной сей трапезы всем христианам и питать себя Таинствами Его страданий». Такое приобщение (причастие) носит название евхаристии или Божественной литургии – и знакомо всем прихожанам... Мандельштам в данном случае сополагает два символа: один из батюшковской поэзии, другой из Священного Писания. Воспринятые рядом, они ярко представляют глубинный смысл самого феномена поэзии: приносящая радость, поэзия одновременно оказывается кровавой жертвой. Развлекая людей, стихи в то же время оказываются искуплением за изначальную бездуховность жизни, их окружающей. И единицей отсчета поэтического воздействия становятся «вечные сны» – ибо что такое, в сущности, вся духовная деятельность человека, как не претворение «вечного сна»? Обряд евхаристии в христианстве связан с понятием духовного очищения человека. Такое «очищение» тоже может обернуться трагедией: в следующем, 1933 году Мандельштам написал знаменитое стихотворение о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны...») – и определил тем самым свою дальнейшую человеческую и поэтическую судьбу. Еще одно стихотворение – это стихотворение большого, но пока не очень читаемого русского поэта Сергея Маркова, которое тоже называется «Батюшков». Это стихотворение, в отличие от мандельштамовского, не нужно «разгадывать», его следует воспринимать целиком и «разом» – поэтому предпошлем ему несколько вступительных строк. Последние 22 года жизни Батюшков прожил в Вологде – в том городе, где некогда родился. И хотя в эти годы он, будучи больным, не создал ничего творчески значимого, для многих поколений вологжан, вплоть до конца XIX века, остался предметом особенной гордости («Я еще при Батюшкове родилась!»), символом неумирающей провинциальной культуры. Он был похоронен летом 1855 года в Спасо-Прилуцком монастыре под Вологдой – его могила в начале нашего столетия была местом культурного паломничества земляков, в том числе и Сергея Маркова, который в детстве жил в Вологде. «Сколько раз, – пишет поэт о своем детстве, – мы побывали на его могиле в Прилуцком монастыре, сколько раз останавливались перед его домом, упорно хранившим тайну угрюмого владельца!» Потом наступили известные события. В 1920-е годы Прилуцкий монастырь был закрыт; потом был превращен в пересыльный пункт для сосланных на Север «кулаков» – и старинные монастырские стены стали свидетелями расстрелов и смертей. Затем в Прилуках стояла воинская часть, потом склад – и совсем недавно он вновь стал монастырем... В 1955 году, когда отмечалось 100-летие со дня смерти Батюшкова, вологодские энтузиасты сумели преодолеть чиновничьи запреты и восстановить могилу поэта на разоренном монастырском кладбище. Там еще стояли военные, посетителей не пускали, но единственной могиле позволили оставаться. В 1987 году, когда праздновалось 200-летие рождения поэта, Василий Белов вспоминал, как в начале 70-х годов это разоренное кладбище посетил старый уже Сергей Марков, помнивший Прилуки еще с дореволюционных времен. В заброшенном монастыре единственная могила была как символ уже не только «вологодской» культуры, но и всего того, что сумели сделать с Россией ее властители в веке XX. Тогда и написалось стихотворение:
В этом стихотворении специфическими, нелогическими средствами воссоздана психология нездорового Батюшкова – и история российского XX века, тоже по-своему «сумасшедшего» столетия. Все опорные символы – из поэзии Батюшкова – как бы «организуют» эту историю, дают ее опорные зримые координаты. «Черный виноград на сломанной лозе», утопленный «перстень золотой», расплескавшееся «багряное вино», потерянный «неоценимый клад», и «леденящий нож», и «святой косарь». И детали того знаменитого сюжета, который постоянно рисовал больной Батюшков в неизменных акварелях: «луна, могила, крест и конь». А успокаивается все тем же изначальным, вечным, ни на минуту не смолкающим «неутомимым звуком» колокольных звонов. Звонов, которых нет, потому что колокола в Прилуках давно сняли. Большого поэта каждое столетие воспринимает по-своему. Девятнадцатый век воспринял Батюшкова как образец стройности и гармонии. «Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения. Он слышал, выражаясь его же выражением, "стихов и мыслей сладострастье"». Так охарактеризовал Батюшкова, еще при жизни, Н.В. Гоголь – и этот образ как будто «утвердился» во многих представлениях о поэте, в том числе и научных. Двадцатое столетие отыскивало в Батюшкове нечто принципиально иное. Оказалось, что знаменитая гармония было чревата внутренней дисгармонией, тревогой и душевной неустроенностью, неприкаянностью, а «осязательная нега наслаждения» стала знаком грядущей беды и предчувствием трагедии, которая может совершиться с человеком и со многими людьми, чересчур упоенно внимающими «сладострастью» стихов и мыслей. Двадцатый век воспринял поэзию Батюшкова как предупреждение... Такая разница в восприятии одних и тех же поэтических созданий показательна для каждого большого поэта, который ведь пишет, анализируя «наше мученье и наше богатство», не для одного своего времени. Как-то воспримут Батюшкова в XXI веке? ЛИТЕРАТУРА Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т. / Подгот. текста В.А. Кошелева и А.Л. Зорина. - М., 1989; Майков Л.Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. – 2-е изд. – СПб., 1896; Фридман Н.В. Проза Батюшкова. - М., 1965; Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. - М, 1971; Кошелев В.А. Творческий путь К.Н.Батюшкова. - Л., 1986; Кошелев В.А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. – М., 1987; Афанасьев В.В. Ахилл, или Жизнь Батюшкова. - М, 1987; Зорин А., Немзер А., Зубков Н. Свой подвиг свершив... – М., 1987; Кошелев В.А. В предчувствии Пушкина: К.Н.Батюшков в русской словесности начала XIX века. – Псков, 1995.
Источник: Кошелев В. А. Батюшков в двадцатом столетии / В. А. Кошелев // Литература в школе. – 2001. – № 2. – С. 9-12.
|
|||||||||||||||