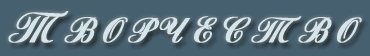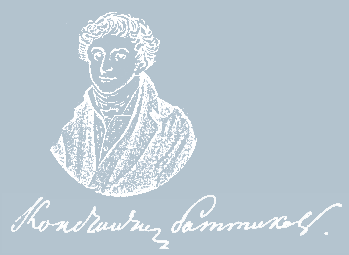
Титульный
лист |
Проза К. Н. Батюшкова
Качурин М. Г. Батюшковские анекдоты о Раевском в истории русского реализма
|
||
|
Н. В. Фридман писал о созданном Батюшковым образе Раевского как об одном из первых в русской прозе реалистических характеров. [1] [Фридман Н. В. Проза Батюшкова. – М., 1965, с. 92–104.] В. А. Кошелев говорил о «правде факта», следуя которой Батюшков создает неоднозначные, противоречивые, сложные человеческие образы и тем самым демонстрирует новые художественные возможности литературы. [2] [Кошелев В. А. Творческий путь К. Н. Батюшкова. - Л., 1986, с. 98–99.]
Строки из Вольтера подчеркивают, кажется, «римский» дух анекдота. Раевский здесь, несомненно, действует с расчетом на определенный эффект, на внимание окружающих. Возникает явное противоречие с непритязательной простотой, характерной для рассказа Раевского в первом анекдоте. Ю. М. Лотман видит здесь два взаимодействующих кода, которые влияют и на стиль поведения, и на стиль текстов, описывающих это поведение, «...в примере с генералом Раевским важно, что он мог вести себя в сфере реального поведения и как герой трагедии, «римлянин», и как «генерал-солдат». Когда Раевский осуществлял второе поведение, а современники осознавали его в системе первого, – создавалась легенда, как это было с эпизодом на мосту в Дашковке. Однако оба кода входили в круг реально возможных». [14] [Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Материалы к курсу теории литературы, вып. 2-й. – Тарту, 1973, с. 88–89.] Поэтому «вполне можно допустить, что, беседуя с Батюшковым, Раевский перекодировал свое поведение в другую систему – «генерал-солдат», простодушный герой и рубака». [15] [Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Материалы к курсу теории литературы, вып. 2-й. – Тарту, 1973, с. 87.] Трактовка очень интересна: она связывает проблематику анекдотов с широкой сферой художественной и бытовой культуры, предупреждает против прямолинейного сопоставления легенды и реальности, освещает диалектику взаимодействия искусства и бытового поведения. Но возникает и сомнение: действительно ли в батюшковских анекдотах «римская легенда» и поступок Раевского в бою под Лейпцигом относятся к одному «коду», едины по колориту? Против этого восстает и автор, и его герой, решительно относя сообщение «Северной почты» к сфере лжи, небылиц. Батюшков особо подчеркивает, что лейпцигский эпизод противостоит легенде о бое под Дашковкой: «Вот анекдот. Он стоит тяжелой прозы «Северной почты»: «Ребята, вперед» и проч. За истину его я ручаюсь. Я был свидетелем, Давыдов, Медем и лекарь Витгенштейновской главной квартиры» (345). Странно: к чему тут свидетели, если автор был очевидцем? Но, видно, Батюшкову хочется трижды подкрепить истинность события, которое легко спутать с событием легендарным: они так похожи внешне и так различны по сути. Героике надуманной, ненатуральной, не оправданной обстоятельствами противопоставлен истинный героизм, который в иные минуты не чужд пафоса и даже «театрального» жеста (чуть скорректированного шуткой), а главное – примененного уместно, точно, по необходимости – как оружие в бою: «Изодранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжко раненного генерала – лучшего, может быть, во всей армии – беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты! – одним словом, все обстоятельства придавали интерес этим стихам» (345). Все это представляется важным и для понимания анекдотов, и для понимания художественной эволюции Батюшкова: отодвинув идеализацию «высокого» героя в область легенд, он обозначил рождение нового взгляда на историческое повествование, на изображение человека, оставившего след в истории. Он не хочет, чтобы даже пылинка лжи пристала к его герою. Казалось бы, не столь уж важна разница, только ли привел генерал сыновей на войну или, взяв за руки, повел под картечь... Для Батюшкова это вещи, стоящие на разных полюсах. Стоит допустить пылинку – и тогда оправдан неостановимый поток «небылиц», с помощью которых любого «карла» можно сделать великаном. Вспоминая то, чему он был «свидетелем в жизни» и что «видел после в описании», Батюшков в начале своего повествования говорит: «Какая разница – боже мой, какая!» (342). Взаимодействие анекдотов раскрывает многогранный, противоречивый, динамичный образ Раевского. Но есть в нем твердая основа: неразделимость генерала и войска, вечное его беспокойство «не о себе, о гренадерах». Такой Раевский с его живой противоречивостью, никак не подходящий под привычные мерки героического, духовно близок автору. «Он молчалив, скромен отчасти, скрыт, недоверчив, знает людей, не уважает лжи. Он, одним словом, во всем контраст Милорадовичу и, кажется, находит удовольствие не походить на него ни в чем» (345). Суть последнего сопоставления сегодня стала яснее, когда полностью опубликованы воспоминания М. А. Милорадовича о сдаче Москвы. Яркая, самобытная фигура видна сквозь эти страницы. Прославленный воин, храбрый и благородный, он увлеченно творит «римские» легенды о самом себе и, кажется, не замечает, что действия всего арьергарда армии, которым командовал, сводит к собственным подвигам. Воспоминания графа Милорадовича (их записал военный историк А. И. Михайловский-Данилевский во время совместной поездки с генералом по Крыму в 1818 г.) – превосходное воплощение той традиции, которую отвергали батюшковские анекдоты. «Чем опасность больше, тем я становлюсь пламеннее... (и, прервав в сию минуту речь, услышав ружейный выстрел охотника, который долго раздавался в утесах Черного моря, граф сказал с жаром: «Прежде, например, в Италии, когда я услышу выстрел неприятельский, то я летел к нему, как на бал»). И в сие время характер мой не изменил мне. Презря все даваемые мне советы, я обратился с гордым, торжествующим лицом к моим адъютантам и закричал...» [17] [Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Материалы к курсу теории литературы, вып. 2-й. – Тарту, 1973, , с. 188.] и т. д. Невозможно представить себе батюшковского Раевского, говорящего нечто подобное. Батюшков очень четко разводит органичную, оправданную обстоятельствами и надуманную, напыщенную линии поведения. Знаменательно, что, продолжая размышлять об этом, он в той же записной книжке через несколько дней изображает офицера, очень похожего на Милорадовича, каким он является в своих воспоминаниях. Этот офицер – Кроссар, австриец, который в 1812 г. перешел на сторону русских и тем «бросил перчатку Наполеону». Кроссар, «любовник пламенный пуль и выстрелов», человек безумно храбрый, влюбленный в Раевского. Под Лейпцигом, гарцуя на коне и очень заботясь о том, чтобы выглядеть героически, Кроссар «вертелся, как белка на колесе, около генерала», подавал ему, по обыкновению, советы и пытался тут же подсунуть план будущей кампании. Батюшков рисует Кроссара с доброй усмешкой – «дело было ужасное, и Кроссар утопал в удовольствии», но жестко замечает: «Раевский оттолкнул его и отворотился» (354). Для Батюшкова Кроссар – это важно заметить – «карикатура». Та же карикатурность, чуждая Раевскому, свойственна и «римской» легенде, которая и отражала «кроссаровский» тип поведения, и порождала его в людях, склонных к легендарному истолкованию событий. Сочетая первый и второй анекдоты, Батюшков наделяет читателя как бы «бинокулярным» зрением, которое позволяет видеть человека и мир объемно. Такое зрение, освоенное читателем, помогает ему увидеть пространство любой, внешне даже незначительной детали, которая при первом чтении может показаться уводящей повествование в сторону. «Он курил, очень много по обыкновению, читал журналы, гладил свою американскую собачку – животное самое гнусное, не тем бы помянуть его! – и которое мы, адъютанты, исподтишка били и ласкали в присутствии генерала: что очень не похвально, скажете вы – но что же делать? Пример подавали свыше, другие генералы, находившиеся под начальством Раевского» (342). Эта деталь может «распахнуться», как дверь в штабные комнаты, накуренные, наполненные блестящей, в основном талантливой и благородной военной молодежью (самому Раевскому было тогда чуть более сорока, среди адъютантов самым старшим был двадцатишестилетний Батюшков). Офицеры скучают – войско было тогда «в совершенном бездействии», развлекаются, кто как умеет, мгновенно затихают с появлением командира, которым гордятся, которого обожают – без подобострастия, но и побаиваются, прекрасно зная, насколько он требователен и непредсказуем. К тому же генерал истомлен вынужденным бездействием, под горячую руку ему лучше не попадаться, и о «взрывчатости» его настроения словно бы предупреждает забалованная собачонка: скалит зубы и злобно ворчит на каждого, кто приближается к ее хозяину. Впрочем, сколько ни «раскручивай» в воображении и эту, и другие детали – многое останется ощущаемым, но непередаваемым в комментарии. Так сделан весь этот маленький текст. Иногда является наивное желание посмотреть страницы на свет, чтобы понять, как это получается... А все подробности и детали в совокупности создают впечатление психологической достоверности и полнейшей естественности. И это, думается, главное, что сделал Батюшков для русской прозы. Естественность не сводится к верным, психологически точным зарисовкам действительности, но проявляется и во всей организации текста. Батюшков рано понял значение плана. Обдумывая сказанное Бюффоном об искусстве писать, начинающий поэт замечает: «План не есть еще слог, но есть его основа». План позволяет познать «меру и пространство», представить «общие и частные идеи с истинной точки зрения» (216). План новеллы Батюшкова, написанной импровизационно, возник мгновенно и сложился в самом процессе писания, но это стало возможным именно потому, что план родился из всего предшествующего жизненного и художественного опыта автора. План настолько органичен, что его масштабность осмысляется читателем не сразу, а лишь в процессе перечитывания и обдумывания. План соединяет жизнь автора и историю страны, охватывает эпоху от первых до завершающих сражений великой войны, позволяет взглянуть на эту эпоху, как на недавнее, но прошлое, ставшее историей, выдвигает проблемы огромного, непреходящего значения – исторической правды и исторической лжи, касается широкого круга и других столь же глубоких проблем, таких, как роль человеческой личности в движении истории. Автор остался доволен опытом, что не часто с ним бывало: «Я могу писать скоро, без поправок, и буду писать все, что придет на ум, пока лень не выдернет пера из руки» (345). Намерение автора не осуществилось, или мы не знаем, как оно осуществлялось: трагическая болезнь не только вырвала перо из руки, но и побудила уничтожить все, что было им написано в Италии, где он много занимался прозой. Мы можем лишь догадываться о направлении его исследований и пытаться понять, как они соотносятся с движением русской литературы. В связи с этим возникает неизбежный вопрос: могли ли быть батюшковские анекдоты о Раевском известны до их публикации? Записная книжка вряд ли передавалась кому-либо для чтения. Но, может быть, в ту пору, когда Батюшков был еще здоров, он кому-либо рассказывал эти анекдоты, и они имели какое-то хождение в устном виде, что и естественно для анекдотов в старом и нынешнем значении слова? Есть по меньшей мере один факт, который делает такое предположение вероятным. Имеется в виду история «некрологии генерала от кавалерии Н. Н. Раевского», опубликованной в 1829 году. Публикация была без подписи, поскольку автор ее – генерал М. Ф. Орлов – был в ссылке под надзором. Герой войны и один из виднейших деятелей декабризма, талантливый оратор и публицист, он был членом «Арзамаса», общался с Батюшковым в тесном дружеском кругу. В «Некрологии...» эпизод боя под Лейпцигом описывается со ссылкой на Батюшкова и, скорее всего, – с его слов: «Поэт Батюшков, служивший при нем адъютантом, заметил сие несчастие и подскакал к нему на помощь. Раевский положил на рану левую руку и, показывая ее обагренную кровью, сказал с улыбкой сии два известных стиха...» (далее цитируются стихи Вольтера, но вторая строка – в иной редакции, нежели у Батюшкова, который, видимо, записал ее по памяти). [18] [Цитируется по «Замечаниям...» Д. В. Давыдова (см. примечание 12), где приведена «Некрология...», написанная М. Ф. Орловым, с. 14.] Упоминания же о знаменитом деле под Дашковкой в «Некрологии...» нет вовсе. Это странно. Можно предположить, что, зная оба батюшковских анекдота, М. Ф. Орлов не счел возможным в некрологии, учитывая стиль такого рода статей, ставить под сомнение всем известную историю подвига генерала и его сыновей под Дашковкой. Но, как участник войны, как боевой офицер, смотревший на войну во многом сходно с Раевским, он не пожелал повторять «римскую» версию. Впрочем, если даже справедливо, что М. Ф. Орлов и еще кто-то из друзей Батюшкова мог слышать анекдоты, то широкого распространения они не могли иметь. Пропуск в «Некрологии...» эпизода, который стал непременным элементом общественного представления о герое, более того – своего рода опознавательным знаком – «тот самый генерал, который...», вызвал недоумение. А. С. Пушкин в первом номере «Литературной газеты» за 1830 г. писал: «С удивлением заметим мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенным отцом на поле сражения в кровавом 1812-м году!.. Отечество того не забыло». [19] [Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Т. VII. – М., 1949.] Пушкин был близок семье Раевских, он, по словам П. И. Бартенева, наслушался рассказов Н. Н. Раевского «про Екатерину, XVIII век, про наши войны и про 1812 год». [20] [См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. – Л., 1976, с. 34.] Но, видимо, ни в этих рассказах, ни в семейных преданиях не было ничего, что опровергало бы легенду. Правда, упрек Пушкина «неизвестному некрологу» не есть еще прямое подтверждение «римской» версии, а лишь того бесспорного факта, что сыновья Раевского были на полях сражений и вели себя достойно. Существенно, что и сам Н. Н. Раевский, судя по им написанным официальным и неофициальным документам, не подкреплял легенду. Вполне понятно, что в реляции Багратиону он не пишет о заслугах сыновей. Но и письмо, посланное свояченице Е. А. Константиновой, не является подтверждением легенды, хотя часто именно так воспринималось и воспринимается: «Прилагаю реляцию о деле, из которой вы узнаете все, как было. (Речь идет о реляции Багратиону – М. К.). Сын мой, Александр, выказал себя молодцом, а Николай, даже во время самого сильного огня, беспрестанно шутил; этому пуля порвала брюки; оба сына повышены чином. А я получил только контузию в грудь, по-видимому, не опасную». [21] [Русская старина, 1874, т. 9, № 4, с. 767.] Зато Д. В. Давыдов в своих «Замечаниях на некрологию Н. Н. Раевского...» излагает эпизод боя под Дашковкой в полном соответствии с традицией: «...в сопровождении двух отроков сынов, впереди колонн своих ударил в штыки на Салтановской плотине, не взирая на смертоносный огонь неприятеля». [22] [Давыдов Денис. «Замечания на некрологию Н. Н. Раевского...», с. 23.] Заметим, что брат Д. В. Давыдова – Лев Васильевич – был адъютантом Н. Н. Раевского в одно время с Батюшковым (о чем упомянуто во втором батюшковском анекдоте). В общем складывается впечатление, что ни батюшковские анекдоты, ни иные сведения, отвергающие традиционную легенду, не имели сколько-нибудь широкого распространения. Тем замечательнее, что дух этих анекдотов так ощутим в прозе 20–30 гг. XIX в. Образ генерала Раевского, немногими, но живыми чертами набросанный Пушкиным в его «исторических анекдотах», – образ человека мудрого, желчного, насмешливого, благородного, – близок герою батюшковских анекдотов. Изображение войны в «Путешествии в Арзрум», как в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке», представляет собою движение по той дороге, которую торил Батюшков-прозаик с его простой правдой, чуждой прикрашенности, но не чуждой героики, с его тонкой иронией, психологической проницательностью, энергией и масштабностью повествования. Батюшковым была опробована и система взаимоотношений автора и его героя, позволяющая обрисовать их в разных ролях, с разных сторон, придающая объемность и многогранность повествованию, – та система, которую разрабатывает Пушкин в «Повестях Белкина». Любопытно, что и Д. В. Давыдов, считая нужным напомнить о легендарном подвиге, укоряет автора и всех «некрологов и биографов» как раз за легендарность – за обыкновение представлять знаменитых вождей «только на коне», в дыму битв и с гласом повелительным». Он стремится дополнить портрет Раевского человеческими чертами и, хотя, кажется, немного успевает в этом, все-таки и здесь ощутима тяга к батюшковской многосторонности и диалектичности в изображении человека. Возможны и не лишены оснований и другие сближения. Например, портрет «странного человека, каких много», человека, в котором живут два – черный и белый, – опыт психологического самоанализа, проведенный Батюшковым на страницах той же записной книжки вослед за анекдотами о Раевском, поразительно близок к юношеским психологическим опытам М. Ю. Лермонтова и к дневниковым записям Печорина. М. Ю. Лермонтов, по свидетельству А. П. Шан-Гирея, был прилежным читателем Батюшкова. Но и эти, и другие возможные сопоставления и сближения, думается, не могут быть объяснены прямым влиянием Батюшкова. Его искания и открытия сильно и точно выразили сдвиги в художественном и нравственном мышлении русского общества первой четверти XIX в., времени мощного подъема национального самосознания. Этим, думается, и может быть объяснена та связь, которая отчетливо прослеживается между батюшковскими анекдотами о Раевском и романом Л. Н. Толстого «Война и мир». Изучая эпоху 1805–1820 гг. (таковы основные исторические рамки толстовской эпопеи), Толстой вошел в «эпоху Батюшкова», впитал в себя те духовные искания, которые были свойственны Батюшкову. Нет (или пока не удалось отыскать) никаких фактов, свидетельствующих о том, что Толстой мог знать в 1863–1865 гг., когда работал над «Войной и миром», рассказы Батюшкова о Раевском. Напротив, материалы, которыми он располагал, содержали многократное изложение легенды о Дашковском бое. Однако Толстой вкладывает в сознание Николая Ростова восприятие этой легенды поразительно близкое к восприятию Батюшкова. Дело происходит накануне Остравленского сражения. Ротмистр Ростов и шестнадцатилетний офицер Ильин, вымокшие за ночь в шалашике посреди выбитого русского поля, слушают рассказ офицера их полка, ездившего в штаб: «Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух детей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать». Далее Толстой передает мысли Ростова, который думал, что, «рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая», что на плотине была, «верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его (...) И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей? Я бы не только Петю-брата не повел бы, но и Ильина даже, этого чужого мне, но доброго мальчика постарался поставить куда-нибудь под защиту...» [23] [Толстой Л. Н. Война и мир, т. III, ч. I, гл. XII.] Николай Ростов, очевидно, не «рупорный» герой автора, его позиция далеко не совпадает с авторской. Но отношение Ростова к легенде о подвиге Раевского, к правде и лжи о подвигах на войне, несомненно, соответствует отношению Толстого, что подтверждает весь текст романа. «Батюшковское», условно говоря, в «Войне и мире» не ограничивается этой сценой, но присутствует и в том, как Толстой смотрит на роль исторических деятелей в движении истории, на роль полководца в бою, что думает о духе войска, о гневе и милосердии на войне, какое значение придает естественности человеческого поведения, как понимает правду в истории и в искусстве, – словом, «батюшковское» живет в глубинах текста, связано с фундаментальными идеями книги. И в тех общих принципах, которыми руководствуется Толстой, изображая человека, присутствует «батюшковское» начало. Батюшков, завершив свой эксперимент, вносит в записную книжку сообщение: «В молодости мы полагаем, что люди или добры, или злы: они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых; Монтень бы сказал серых. Но зато истинная опытность должна научать снисхождению, без которой нет ни одной общественной добродетели...» (346). Толстой, осмысляя свой опыт, записывает в дневнике: «Люди ведь все точно такие же, как я, т. е. пегие – дурные и хорошие вместе, а не такие хорошие, как я хочу, чтоб меня считали, ни такие дурные, какими мне кажутся люди, на которых я сержусь или которые меня обидели». [24] [Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 51. – М., 1952, с. 44.] По справедливости, имя Батюшкова и его анекдоты о Раевском должны быть названы, когда речь идет об источниках толстовской эпопеи, о предшественниках Толстого. Идеи и образы Батюшкова, даже если они не были отчетливы в сознании тех, кто шел за ним, не соотносились с его именем, жили и действовали в общественном сознании и в искусстве. Разумеется, движение русской прозы и литературы в целом к исследованию и изображению реализма во всей ее сложности и противоречивости не совершается усилиями одного Батюшкова. Сам он умел ценить сделанное предшественниками и современниками. Автор знаменитых сатир – «Видение на берегах Леты» (1809), «Певец в беседе любителей русского слова» (1813), отвергавших отжившие или дурные традиции, Батюшков дорожил добрыми традициями, глубоко судил о заслугах Ломоносова и Кантемира, Фонвизина и Радищева, Державина и Крылова; громадное значение для него имела деятельность Карамзина как историка-художника. Недаром и свою записную книжку 1817 г. он назвал «Чужое: мое сокровище», заполнив многие ее страницы выписками из произведений любимых авторов от античности до современности. Именно историческая память, духовная преемственность стали основой своеобразия и новаторства Батюшкова, позволили ему с уверенностью сказать: «Ни за кем не брожу: иду своим путем». [25] [Сочинения К. Н. Батюшкова. Т. III. – СПб., 1886, с. 417.] В прозе Батюшкова, как показал В. А. Кошелев, нашли наиболее наглядное отражение те признаки, «которые свидетельствовали об изменении эстетического отношения художника к действительности». [26] [Кошелев В. А. Творческий путь К. Н. Батюшкова. – Л., 1986, с. 107.] Критический взгляд на легендарность в изображении истории и исторических лиц; постижение исторической правды в сложном, конфликтном взаимодействии людей и обстоятельств; утверждение естественности человеческого поведения, проявляющейся в широком диапазоне – от суровой простоты до героического пафоса; создание характера, вырастающего из живой реальности и потому объемного, противоречивого, динамичного; психологическая емкость и достоверность речи персонажей и иных художественных деталей; углубление взаимоотношений повествователя и героя, позволяющее увидеть многогранность того и другого образа; тончайшая ироничность как инструмент анализа человеческих помыслов и поступков и авторского самоанализа; масштабность плана, сжатость и внутренняя энергия повествования, расчет на деятельность читательского воображения – все это и многое другое, что так ясно высветили батюшковские анекдоты о Раевском, послужило становлению реализма в русской прозе XIX века и сохранило свое значение для нашего времени. Потому сегодня так важно почаще вспоминать батюшковское отношение к духовному наследию, выраженное им словами Иисуса, сына Сирахова, в эпиграфе к записной книжке «Чужое: мое сокровище»: «Аще узриши разумна, утренюй к нему, и ступени дверей его да трет нога твоя» (339). |
|||