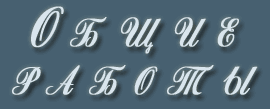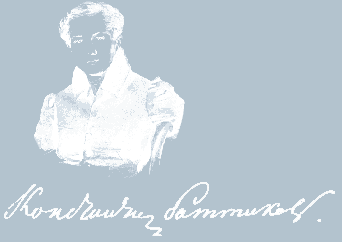
Титульный
лист |
Юрий Иваск
Константин Николаевич Батюшков. Крючковатый нос, что-то птичье в лице. Светлые курчавые волосы. Разбегающиеся голубые глаза. Приподнятые удивленные брови. Легкая улыбочка. Хилость, хрупкость. Малый рост: субтильная фигурка. Всё, вообще, небольшое. О себе самом он писал: «...я имею маленькую философию, маленькую опытность, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек. Я часто унываю духом, но не совсем, а это оправдывает мое маленькое... mon infiniment petit (вспомни Декарта)» (Гнедичу, в августе 1811 г.). Да, в нем было много детского. В письмах к друзьям он очень по-ребячески называет себя по имени: «...в тридцать лет буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется, ненавидит Славян (т. е. Славяно-Россов, сторонников Шишкова), тибуллит на досуге» (Гнедичу, 27-го ноября 1811 г.). Но маленький Батюшков, который чуть ли не в каждом письме упоминает о слабом своем здоровьи (то грудь болит, то меланхолия), был боевым офицером: правда, не таким, как Денис Давыдов, лихой гусар-поэт, но всё же малодушия в сражениях он не проявлял. В 1807 г. Батюшков был ранен под Гейльсбергом, а в 1813 г. участвовал в кровопролитнейшей «битве народов», под Лейпцигом. Его любил и отличал храбрейший из храбрых – «римлянин» Раевский; его любили и баловали полковые товарищи и друзья-поэты. Никто над его физической слабостью не смеялся. А ведь зло подсмеиваться тогда очень любили... Какая была у него натура? Что он любил, чего ему хотелось? Сильные порывы были ему чужды. На войну он отправился добровольцем: отчасти по долгу дворянской чести, отчасти потому, что в ту эпоху все «горели желанием» послужить отечеству на поле брани. Но, служа честно, войной он не вдохновлялся. Женщины: Батюшков дважды чуть было по женился – в Риге, на девице Мюгель, и позднее в Москве, на девице Фурман. Оба раза сильно был увлечен и от счастия своего, от цепей Гименея отказался не без горечи. Но, судя по письмам, – стихам, дружбе и друзьям (Гнедичу, Жуковскому, Вяземскому и, в особенности, безвременно погибшему поэту Петину) он уделял больше внимания. В письме к Гнедичу он пишет: «...А пока пойдем с рублем к Каменному мосту и потом направо...» (3-го мая 1809 г.). Однако, упоминание это о любви продажной – единично. Непристойностей, которыми изобилуют письма Вяземского и Пушкина, у него не находим. По сравнению с приятелями своими, арзамасцами, он чист, прохладен. Знал ли он вообще женщин? В другом письме, всё к тому же Гнедичу, он восклицает: «...где то чистое, сердечное сладострастие, в которое сердце мое любило погружаться? Оно улетело с песнями Шолио, с сладостными мечтами Тибулла и милого Грессета, с воздушными гуриями Анакреона» (август 1811 г.). Сладострастием воображения дышит его неистовая «Вакханка» (1S15 г.). Здесь Батюшков не прохладно-меланхоличен, а горяч, даже «зноен». Есть огонь и в его раю – в эллинском Элизии: Где любовник воскресает Но, кажется, прохладная меланхолия более соответствовала его характеру, его натуре. Еще задолго до «Евгения Онегина» Батюшков избрал своим девизом il dolce far niente (Гнедичу, 30-го сент. 1810 г.). Ему жилось привольно в родовой новгородской деревеньке в ветхом усадебном домике. Хорошо было ему и в Неаполе, где он служил в русской миссии (1818-19 гг.). «Уединение – источник благ и счастья», - пишет он в одном раннем стихотворении (1808 г.). Он любил предаваться созерцанию «в тени черемух, акаций» или «в прохладе ясеней». Одинокие прогулки, мечтания, чтение стихов, писание стихов – вот те невинные занятия, которые более всего были ему по душе. В русской деревне и в Италии, у Везувия, ему дышалось свободно. Здесь создавалась атмосфера наибольшего благоприятствования для развития его натуры, его таланта. Всё же он продолжал жаловаться: и на слабое здоровье, и на безденежье, и на отсутствие друзей-собеседников. Но не шум сражений и суета столиц, а тишина русских полей и неаполитанского залива – вот тот светлый фон, на котором легче всего воссоздается читателем его совершенная, безбурная поэзия. Батюшков-поэт расцветает в спокойной тишине мечтательной лени. Это счастливое far niente пленяло и Пушкина: но он никогда не мог довольствоваться малым – тем элегическим счастьем, которым дышит приятно-меланхолическая поэзия его скромного старшего собрата. Правда, и Батюшкову иногда хотелось созерцать нечто великое. Трагической темой был для него «Умирающий Тасс»: однако, эта растянутая историческая элегия ему не удалась (хороши в ней лишь отдельные немногие стихи). По отзыву Пушкина, трагизма итальянского поэта Батюшков не понял: это умирающий Василий Львович (дядя поэта), а не Торквато Тассо!.. До понимания трагического маленький Батюшков не дорос. Но в малом был он счастлив. Поистине чудом был угаданный им образ совершенства русской поэзии. Впрочем, самое понятие совершенства исключает понятие размера, количества. Безразлично, велико ли оно или мало. Оно – есть. Апогей, акмэ Батюшкова – в первых трех строфах элегии «Тень друга» (1814 г.), посвященной памяти лучшего друга, поэта И. А. Петина (1789-1813), убитого под Лейпцигом. Вот отзыв Пушкина об этом стихотворении: «Прелесть и совершенство – какая гармония!» Я берег покидал туманный Альбиона: Мастерство, высокое мастерство этих стихов существенно, но всего замедленного очарования их путем формального анализа объяснить нельзя. Очень последовательная композиция. Образы тумана, тишины повторяются и, не спеша, развивают лирическую тему. Благозвучие достигается повторением ударного а, согласными л, р, н, м и звуковыми группами: вечерний ветр, ветр и трепет, светила севера, и других, менее заметных, например – кормчего, дремлющей. Язык карамзинский «средний», славянизмов почти нет: и нет выражений разговорных, но изложение развивается естественно, свободно. Всё неярко, просто и, при этом, тщательно выверено. Языковая мелодика Батюшкова в известной схеме Эйхенбаума не принята во внимание, не учтена. Это мелодика – не декламационная (Державин), не напевная (Жуковский), не говорная (некоторые строфы «Евгения Онегина»). Это мелодика – не громкой речи, не песенного лада, не разговорных интонаций, а медленного плавного чтения. Это чистая поэзия, зависимость которой от любой прозы, а также от пения, напева – минимальна. Это очень замкнутое в себе совершенство. Элегическую гармонию «Тени друга» лучшие поэты того времени усвоили. Они заимствовали у Батюшкова его образ очарованного поэта. Вот примеры: Баратынский: Жуковский: Пушкин: Пушкин более всего был обязан Батюшкову: не только в юности, но и в зрелые годы (на что меньше обращалось внимания в работах В. П. Гаевского. Н. М. Эллиаша, М. О. Гершензона). Стихотворение Батюшкова «К другу» (князю Вяземскому, 1815 г.) отозвалось в одном из лучших стихотворений зрелого Пушкина («Воспоминание» 1828 г.): Батюшков: Пушкин: Совпадающих выражений немного (Когда... замолкнет шум градской и – Когда ...умолкнет шумный день). Но основная тема та же: ночь (хотя и не белая, полупрозрачная, у Батюшкова). И то же чередование мужских и женских рифм, шестистопных и четырехстопных ямбов. Немало близких по звучанию групп согласных: у Батюшкова окрест, градской, яркий, друг. У Пушкина: смертного, града, полупрозрачная, трудов награда. Не есть ли это сочетание плавного р с любой другой согласной одно из самих счастливых в русском языке? У Батюшкова оно встречается постоянно. Вот несколько примеров: Я имя милое твердил Мне снилось в юности: орел-громометатель И трауром покрылся Капитолий... Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы У Батюшкова находим и другие примеры инструментовки. В следующих стихах доминирует м: Из мест, где Мантуя красуется лугами, Та же звукопись у Кузмина: Но, в противоположность поэтам нашего века, очень уж явной эвфонии Батюшков избегал: сплошную инструментовку он, вероятно, осудил бы как нечто чрезмерное, излишнее, как погрешность против хорошего вкуса. Русская поэзия может обходиться и без этого очень чистого, очень искусно-выверенного и даже несколько искусственного совершенства. Большие поэты, Тютчев, законный наследник громкого, одического Семнадцатого Века, и Блок, внук или правнук Жуковского, которого он «оцыганил», этой батюшковско-пушкинской гармонии остались чужды, и они «не проиграли». Но понятие совершенства, как вещи самодостаточной и предельно-чистой, лишенной посторонних примесей, применимо лишь к Батюшкову и к Пушкину, поскольку он первому следовал. Тютчев и Блок – поэты – замечательные, но несовершенные. Самое очарование их поэзии в том, что она несовершенна. Предпочтение, оказываемое ими патетическому красноречию (Тютчев) или цыганскому «вою», творчески оправдано. Однако, можно утверждать, что «любая» прекрасная, но несовершенная поэзия русского поэта воспринимается и будет восприниматься на светлом фоне предельного, чистого совершенства, обретенного маленьким Батюшковым. Это он заложил храм русской поэзии. Это он утвердил канон, догмат, по отношению к которому все возможные отступления останутся ересями, пусть и великими ересями. Возможно и даже желательно любое беззаконие, любое безобразие (Державин или Маяковский), по законом «во веки пребудет» догмат совершенства, установленный малым поэтом Батюшковым. Этот догмат воспринят был и Пушкиным: вообще Батюшков полностью в Пушкина «вошел» как часть – в целое неизмеримо большего размера, но не лучшее по качеству. Батюшков угадывал величие грядущего поэта – пушкинское величие. Это как будто подтверждается следующими его замечаниями об Ариосто (в письме к Гнедичу, 29-го ноября 1811 г.): этот поэт «...умеет соединять эпический тон с шутливым, забавное с важным, легкое с глубокомыслием, тени с светом... умеет расстроить даже до слез, сам с вами плачет и сетует и в одну минуту и над вами смеется, и над собой смеется. Возьмите душу Виргилия, воображение Тасса, остроумие Вольтера, добродетели Лафонтена, гибкость Овидия: вот Ариост». Ариосто я не знаю и плохие стихи батюшковского перевода из этого поэта не убедительны. Но убедительна и знакома характеристика великого поэта, в котором легко узнать Пушкина... Разве это не Пушкин «Евгения Онегина»: эпический и шутливый, забавный и важный (т. е. величественный, торжественный на языке того времени), легкий и изредка глубокомысленный, трогательный, плачущий и смеющийся то над читателем, то над самим собой... Лучшую характеристику Пушкина, певца «Евгения Онегина», не найти; и она отчасти совпадает с кузминской. Пушкин Кузмина: Он – жрец и он веселый малый, Конечно, кузминский Пушкин «телеснее» батюшковского Идеального Поэта, воплощенного в зыбком образе Ариосто. Но у обоих – то же богатство противоположных и творчески-согласованных переживаний; тот и другой одушевленнее иконного Пушкина-всечеловека, созданного Достоевским. Всё-таки, прихотливая параллель между батюшковским Ариосто и кузминским Пушкиным может показаться неубедительной. Но, несомненно, что Батюшков в своей характеристике певца «Неистового Роланда» создает образ Идеального Поэта, – каким он должен быть и каким он, может быть, втайне сам хотел стать. Батюшков им не стал. Но в малом своем «поэтическом хозяйстве» он преуспел. Умеренное, ненавязчивое благозвучие, равномерное распределение поэтической энергии в строфах, чистое совершенство, взимающее из языкового материала «лучшие слова» – вот качества поэзии Батюшкова. Это также качества поэзии Пушкина, который, однако, в противоположность своему старшему брату-поэту и учителю, не брезгал никакими словами (за исключением мещанской вульгаты). «На глаз» – пушкинский словарь раза в три богаче батюшковского: у него и архаизмы (самые «высокие» в «Анджело»), и фольклор (самый «первозданный», грубый в «Балде»), и разговорные выражения «хорошего общества» (в «Евгении Онегине»). Но любую речь Пушкин эвфонически гармонизировал, логически развивал и уравновешивал в своей поэзии по законам батюшковского стихотворства. Последнее утверждение путем сравнения текстов едва ли доказуемо. Можно исследовать воздействие элегий Батюшкова на многие лирические стихотворения Пушкина. Но нельзя методами академическими доказать принятие Пушкиным основного батюшковского канона поэтики. Методы академические всегда очень ограничены. Свободная критика может идти дальше. Она – шире. Она может кое-что утверждать, основываясь на «интуиции», но, конечно, не должна, при этом, противоречить фактам. То, что многие иногда «интуитивно» находят в поэзии Пушкина – равновесие, самообладание, трезвость мысли и сладость звуков – уже есть в поэзии Батюшкова. Их обоих иногда легко спутать... Может быть, лучшие батюшковские стихи – эти: О, память сердца, ты сильней Странным образом, эти строки Пушкину не понравились. Но Аполлон Майков, использовав эти два батюшковских стиха в качестве эпиграфа, подписал их именем Пушкина, спутал... Они, действительно, звучат очень по-пушкински и окрылены рифмой, встречающейся у обоих поэтов: печальной – дальной. Вообще же, Пушкин восхищался поэзией Батюшкова. О своих стихах, посвященных «Музе» (В младенчестве моем...), он сказал: «я их люблю, они отзываются Батюшковым...». Батюшковские реминисценции находим и у позднего Пушкина. Об этом уже говорилось выше. Приведем еще несколько примеров. Стих в песне Вальсингама («Пир во время чумы», 1830 г.) – «Есть упоение в бою» перекликается с батюшковским переводом из Байрона – «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (конец 10-х). В стихотворении «Счастливец» (1810 г.) читаем: Слышишь мчится колесница А Евгений (в «Медном Всаднике») слышит за собой Нередко Пушкин «совпадает» с Батюшковым в «Евгении Онегине» (Д. Д. Благой). В 7-ой главе: Прощай, свидетель падшей славы; а у Батюшкова башни древние царей – «свидетели протекшей славы». Характеристика самого Онегина отчасти намечена в батюшковских стихах о «добром приятеле», Который с год зевал на балах богачей, Бытовые описания в «Евгении Онегине» отчасти предвосхищаются в послании Батюшкова к графу Вьельгорскому (1809 г.), где дается каталог всякого модного вздора: трубки, сыр выписной, Гамбургский журнал... Но всё это мелочи. Отдельные примеры (хотя их можно было бы привести больше) – недостаточны. Узы поэтического родства, связывающие Батюшкова и Пушкина – неразрывны и обнаруживаются преимущественно «интуицией». Каждый читатель, в этом легко убедится, читал «вперемежку» обоих поэтов: логика и эвфония у них та же. Ниже я даю несколько комментарий, объясняющих самый факт возникновения поэзии Батюшкова. Ее чудо, как и всякое чудо, остается, к счастью, необъяснимым. Отец Батюшкова принадлежал к той малочисленной элите, которая образовалась в царствование Екатерины II, когда служба перестала быть обязательной для российского дворянина (еще по указу Петра III). Многие дворяне обленились, опустились, но всё-таки культурный уровень хотя бы и очень ничтожного меньшинства благородного сословия несомненно повысился. На службе Батюшкову-отцу не повезло; он поселился в своей захолустной деревеньке, и собрал очень значительную библиотеку. Батюшков-сын, рано отосланный в петербургский пансион, отцовским книгохранилищем воспользоваться не успел. Но екатерининская элита очень ему импонировала. Он пишет, что в обществе того времени писатели заимствовали «людскость», вежливость, благородство. Общество умных женщин (П. Ж Ниловой, А. П. Квашниной-Самариной), благосклонное менторство старших друзей (М. Н. Муравьева, И. М. Муравьева-Апостола, А. Н. Оленина, позднее Н. М. Карамзина), наконец, друзья-сверстники в «веселом доме» кн. П. А. Вяземского и потом в Арзамасе, – для него самого были лучшей школой «людскости», культуры. Ведь по собственному признанию, в школе он до корней (просвещения) не добрался. Это была та культурная среда (раннего ампира), в которой Батюшков рос, развивался. Она была гармонической. Трещина в ней образовалась позднее, после возвращения русских войск из Парижа, когда начали создаваться тайные общества. В них принял участие сын покровительствовавшего Батюшкову М. Н. Муравьева – Никита, автор известной Конституции (проекта). Сохранились его отметки на полях батюшковских «Опытов в стихах и прозе». Поэзией молодой Муравьев интересовался мало, но его возмутило прославление Батюшковым просвещенного абсолютизма в России. Батюшков был западником. Русская история начинается для него при Петре, а культура – развивается и преуспевает под эгидой Екатерины и Александра. Так что, с его точки зрения, всё в России обстояло благополучно (хотя сам он и был обойден наградами, не повышался по службе и иногда почти бедствовал). Правда, можно найти у него и замечания гуманно-либеральные: так, в письме к сестре он пишет, что не хочет своих крестьян обирать. Но никаких следов социального негодования мы у него не находим. Это-то и раздражило Никиту Муравьева. «Возмутительных стихов», подобно Вяземскому, Пушкину, Рылееву – Батюшков не писал, не мог написать. И не только потому, что политика его интересовала мало. Самый склад его мышления был чужд всему революционному. Он нередко предавался меланхолии, в душе его росло «черное пятно» (наследственное безумие). Он знал, что ему суждено сойти с ума. Но мыслил он гармонически, как и Жуковский: при этом, гармония Жуковского вмещала мистическое небо, а батюшковская – одну землю. В ранней юности Батюшков взял на себя роль беззаботного «эпикурейца». Позднее он всё чаще впадал в уныние, и даже в отчаяние, которое перешло в помешательство. Но все эти житейские злоключения и мрачные настроения поэтической гармонии его не нарушали. В поэзии и в поэтике своей Батюшков оставался верен ранним, юношеским «впечатлениям бытия». Его мировоззрение сложилось в ту эпоху раннего ампира, когда русское культурное общество находилось в самой «гармонической» стадии своего развития. «Дней Александровых прекрасное начало» в какой-то степени определило его творчество. Даже общение с «левыми» литературными кругами в начале 1800-х г.г. (Пнин, Попугаев, Радищев младший) на Батюшкова никакого влияния не оказало. Как слагался Батюшков-поэт? В поисках совершенства он обратился к итальянскому языку, звучащему «как арфа». Он, по-видимому, стремился настроить русскую лиру свою на итальянский лад. Язык русский, писал он Гнедичу: «...плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? Что за ш, ший, щий, тры? О варвары! А писатели? Но Бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и его наречие. Я сию минуту дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарки, у которого, что ни слово, то блаженство» (1811 г.). По известному отзыву Пушкина стих Батюшкова – «Любви и очи и ланиты...» – звучит по-итальянски. Действительно, итальянский язык был для Батюшкова идеальным языком поэзии. Но его поэтическая речь оставалась вполне русской и «на практике» он пользовался осужденными им звуками, вроде ы и щий: и они гармонии его поэзии нисколько не нарушали. В «Тени друга» – «взыванье ко страже дремлющей...» – здесь щей гармонирует со звуком ч (кормчего, очарованный, мачты). Русским каноном Батюшкова был средний стиль Карамзина и Дмитриева. Этот созданный ими язык «хорошего общества» – Жуковский и Батюшков упростили, одушевили и ко времени появления Пушкина довели до совершенства. Пушкин целиком «усвоил» элегического Батюшкова, а «напевный» Жуковский «остался про запас» и был позднее использован Фетом, Блоком. Батюшкова, как и Парни, называют предромантиком и даже романтиком: ведь во второй половине 10-х г.г. он увлекался Байроном и перевел «морскую песню» из байроновского Чайльд-Гарольда (VI, 178). Позднее, уже в состоянии безумия, он написал ему письмо: «прошу Вас, Милорд, прислать мне учителя Английского языка, когда я снова буду обитать в Москве, в сем доме. Желаю читать Ваши сочинения в подлиннике. Молитесь Невесте моей» (1826 г.). Но зыбкое романтическое небо Батюшкову не приоткрылось (как Жуковскому, прозревавшему «вечное» в стихах памяти Марии Протасовой). В благозвучных плавных его элегиях нет романтической тоски и романтических прозрений. Печальный прекрасный мир его поэзии остается земным. Романтизм ни в Батюшкове, ни в Пушкине ничего не объясняет (хотя оба они иногда пользовались романтическими сюжетами). Более оправдано другое объяснение: их творчество может быть истолковано, как ампирное. Ампир – это несколько упрощенный классицизм в архитектуре начала XIX-го в. Из Франции он распространился по всей Европе. Для русского ампира характерна разноцветная штукатурка (чаще всего белая, желтая, но иногда и розовая, зеленая), которой покрывались усадебные колончатые «домы» в Москве, в подмосковных и в провинции: эта окраска смягчала строгость стиля. В Петербурге ампир строже, суровее. Батюшков – первый русский литератор, который ампир осознал. В своей замечательной «Прогулке в Академию Художеств» он называет имена Томона, Захарова, Гваренги и восхищается архитектурными ансамблями Петербурга, «смешением воды со зданиями», решеткой Летнего Сада в окружении лип, вязов, дубов. Ампир, угаданный и истолкованный Батюшковым (под влиянием Оленина) был позднее «переведен» Пушкиным на язык поэзии (в «Медном Всаднике»): Люблю тебя, Петра творенье Оба поэта ампир прославляли. Но более существенно, что и понимание поэзии у них обоих ампирно. Их божество, их музы – классически-разумны, а не романтически безумны, заумны. При этом, оба они доверялись и чувству: у прохладного Батюшкова была его «память сердца», а Пушкин знал «язык страстей». Они оба сильно чувствовали, но не были чувствительны. Они разумны, но не рассудочны. За чувствительность они укоряли Шаликова, а за рассудочность, «умничанье» – Вяземского. Эмоции свои Батюшков и Пушкин подчиняли логике и разума, и сердца; поэтому, все чувства так прозрачны и одушевленны в их поэзии. Исторический тон ее – это ампир: строгий, столичный (в «Медном Всаднике») и более мягкий, провинциальный или деревенский (в лирике обоих поэтов; и в «Евгении Онегине», где, впрочем, охвачена вся дворянская Россия того времени). Ампирны определения творчества в статье Батюшкова «О легкой поэзии». Главные достоинства слога – это «движение, сила, ясность. Критик ...каждое слово взвешивает на весах строгого вкуса, отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным. В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкой плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях...» Можно ли утверждать, что Батюшков излагает здесь исповедание классицизма? – Нет, это понятие может повести к недоразумениям. Авторитеты классиков уже были низложены. Появились новые жанры, неизвестные классикам, и новые кумиры. Не только Пушкин, но уже и Батюшков восхищался богом романтиков – Шекспиром; и ему нравился «дикий» (барочный) Державин. Если вообще нужна вывеска (для исторической ориентации), то самой подходящей является ампир, обнимающий почти всю русскую культуру первых двух-трех десятилетий XIX-го века: и зодчество, и словесность – не только поэзию Батюшкова, Вяземского, Давыдова, Пушкина, Дельвига, Грибоедова, Баратынского и в какой-то мере даже Жуковского, но также и юридический стиль Сперанского, конституционные проекты декабристов и, может быть, лаконическое красноречие проповедей митр. Филарета. Явления эти очень разные и далеко не все они «гармоничны». Всё же немало в них общего. Это общее: то разумное чувство камня и слова, та «трезвость духа», то умение ограничивать тему, которые характерны для всего ампира. Почти все мыслящие люди того времени могли бы одобрить пушкинское определение вдохновения. Вдохновение – «...есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению оных» («Возражение» Кюхельбекеру, 1824 г.). Вдохновению (ума и сердца) Пушкин противополагает восторг (эмоциональный и рассудочный), который «исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного». Этот восторг (романтический) Пушкин, и не вся ли его эпоха, осуждает. Определение вдохновения и восторга, как и многие другие пушкинские формулировки, подсказано Батюшковым. Но, как всегда и везде, были и еретики: философствующие архивные юноши или Кюхельбекер с его грандиозными замыслами романтической трагедии – вдохновению предпочитали восторг. Ампир, как явление культуры, несомненно многое в Батюшкове и Пушкине объясняет, но, к счастью, далеко не всё. Ведь поэзия и вообще искусство должны оставаться необъясненными до конца: иначе писание стихов и любое творчество лишились бы всякого смысла. Все литературные и исторические комментарии кажутся бледными при сопоставлении их с комментариями поэта, жившего уже не в Петербурге, а в Ленинграде, где через сто лет, он перекликнулся с забытым Батюшковым. Я имею в виду Осипа Мандельштама. Его стихи, посвященные Батюшкову, были написаны в 1932 г.: Словно гуляка с заморскою тростью Ни на минуту не веря в разлуку, Он усмехнулся. Я молвил: спасибо, Наше мученье и наше богатство И отвечал мне оплакавший Тасса: Что ж! Поднимай удивленные брови, Звуков изгибы, говор валов, шум стихотворства, колокол братства, гармонический проливень слез... это уже не слагаемые исторической эпохи (ампира), а слагаемые поэзии Батюшкова, заново пережитой его отдаленным «потомком». Ничего не объясняя, только показывая, Мандельштам заново воссоздает, воскрешает Батюшкова-поэта: его рука в светлой перчатке холодная, мертвая, но его поэзия продолжает жить, очаровывать. Она опять «изымает душу» из ее «обыкновенного состояния» и делает любимцев своих (поэтов) «несчастными счастливцами» (из письма Батюшкова Гнедичу, август-сент. 1811 г.). Батюшков, уже омраченный душевно, сказал Вяземскому, в июне 1826 г. (Соч., VIII, 481): «...я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, и упал, и разбился вдребезги. Поди, узнай, что в нем было». Нет, сосуд этот не разбился; Пушкин принял его из рук Батюшкова, а почти через сто лет его решился поднять Мандельштам. Дарования этих поэтов не равноценны. Нежный Батюшков и нежный Мандельштам – «субтильные фигурки»; они поэты, хотя и удивительные, однако, не великие. Но у них был тот же образ совершенства, они стремились к той же гармонизации плавной поэтической речи, что и великий Пушкин. Самый бедный из всех этих трех поэтов: Батюшков. Беден его словарь, его стихи бедны мыслию и чувством, и очень уж узок, невместителен излюбленный им жанр (элегии). Но у него приоритет в плане времени: в своих элегических стихотворениях он, первый, создал образцы той плавной «членораздельной речи», которая остается и останется основным каноном русской поэзии, – каноном, который не в силах поколебать великие ереси Тютчева, или Блока, или Маяковского. Ересям, покуда жива русская (и вообще, любая), поэзия, надлежит быть. Ереси подтверждают незыблемость догмата... Очарованный Батюшков всё еще стоит у мачты: он слышит валов взыванье, слышит однообразный шум и трепет парусов. А мы слышим каждое им произнесенное слово: всегда самое лучшее, самое чистое – тщательно выверенное, но срывающееся с его уст «естественно-просто». Его стихи не только слышимы, но и видимы: их даже можно осязать, как «складки мраморной драпировки» (Белинский). Поэзия Батюшкова – незыблемый догмат и чудо звучания. В ней та тяжесть, и та нежность, о которых Мандельштам сказал: одинаковы ваши приметы... (1920 г.). Батюшков родился 18-го мая 1787 г., умер 7-го июля 1855 г. Приблизительно половину своей жизни он провел в безумии. Помешанным был дядя его отца, Андрей Львович Батюшков. Он замыслил свергнуть с престола Екатерину. Весь этот заговор был плодом расстроенного воображения. Мать поэта, Александра Григорьевна, сошла с ума. Поэт знал – какое тяжелое наследство обременяет его. Душевная болезнь обнаружилась в 1822 г., когда он жил в Крыму. Приятель его, П. В. Сушков, рассказывает: «Однажды застаю его играющим с кошкой. – Знаете ли какова эта кошка, - сказал он мне, – препонятливая! Я учу ее писать стихи – декламирует уже преизрядно». Тогда же Батюшков сжег свою дорожную библиотеку и жаловался на хозяина гостиницы: он будто бы наполняет занимаемую им комнату сороконожками, тарантулами, сколопендрами. Его привезли в Петербург и оттуда отправили на излечение в Зонненштейн (в Германии), где он прожил четыре года. Здоровье его не улучшилось. В 1828 г. он вернулся в Россию в сопровождении немецкого врача Антона Дитриха, который вел подробный журнал его болезни. Медицинский диагноз болезни остается неясным. Но всё же очень интересны некоторые наблюдения, сделанные Дитрихом. Настроение Батюшкова постоянно менялось: неистовствуя, он оплевывал врача, и именовал себя Сыном Божиим: плача и каясь, он просил вырвать у него зуб во славу Матери Божией; чем-то восторгаясь, он говорил стихами, по-русски, по-французски, по-итальянски. Иногда он устрашал, иногда же вызывал жалость. И – оставался поэтом. Упиваясь звуками «авзонийской речи», он восклицал: О, patria di Dante, patria d'Ariosto, patria de Tasso! O cara patria mia! О Шатобриане он говорил, что ему следовало бы именоваться: Chateau Brillant, и, при этом смотрел вверх, словно любуясь видением волшебного замка. Собою Батюшков уже не владел, но поэзия еще владела им. Очень по-батюшковски, нежно-мелодично и ампирно-мраморно звучат стихи, написанные Батюшковым в годы душевной болезни: Царицы, царствуйте, и ты, императрица! Смысл – неясен, но игра слов (кесарь-косарь) – игра поэтическая. А сестрицей он называет родственницу, ухаживавшую за ним в Вологде, Елизавету Петровну Гревенс (Элиза). Все стихотворение посвящено ей; эта пьеса является вариантом «Памятника» Горация, при чем ряд выражений заимствован у Державина (Так первый я дерзнул в забавном русском слоге – О добродетелях Фелицы говорить). В последнем стихотворении, написанном до безумия, Батюшков изрекает: ...Рабом родится человек, Батюшков страдал немало. Но в несчастии своем он был, по собственному признанию, «несчастным счастливцем» (как все поэты). Рыдания его элегий – счастливые, блаженные, очищенные поэзией. Поэтому он и не «исчез» (вопреки его Мельхиседеку), и не скоро еще исчезнет. За блаженное, бессмысленное слово Молясь за поэзию, он молился и за Батюшкова... Источник: Иваск Ю. Батюшков / Ю. Иваск // Новый журнал. – 1956. – кн. 46. – С. 68–83. |