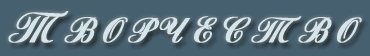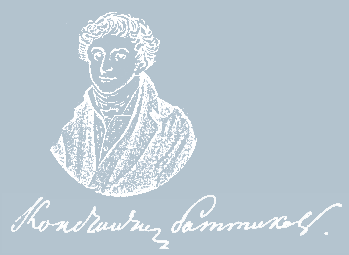
Титульный
лист |
Поэзия К. Н. Батюшкова
Альми И. Л. Стихотворение «Тень друга» в контексте элегической поэзии К. Н. Батюшкова
«Тень друга» – стихотворение необычной судьбы. Им мало занимались литературоведы. К нему обращались крупнейшие поэты. Пушкин и Мандельштам восхищались элегией как уже состоявшимся фактом высочайшего искусства, прекрасной данностью. Но поэтическая энергия вещи оказалась неисчерпанной, обнаружила способность к новым рождениям. Строки Батюшкова оторвались от своего источника. Марина Цветаева связала зачин стихотворения с «сюжетом» жизни Байрона [1] [Цветаева М. «Я берег покидал туманный Альбиона…». - Избранные произведения. – Л., 1965, с. 140.], Николай Тихонов – с размышлениями о судьбах предвоенной Европы [2] [«Тень друга» – название книги лирики Н. Тихонова 1936 г.]. Слово, сказанное полтора века тому назад, не утратило таящейся в нем художественной активности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Литературоведение, фиксируя ситуацию, не оспаривает статуса, установленного отношением поэтов. Элегию привычно называют в числе шедевров Батюшкова, с тем, однако, чтобы больше к ней не возвращаться (исключение – несколько точных замечаний в работах И. М. Семенко и В. В. Виноградова [3] [Семенко И. М. Поэты пушкинской поры.– М., 1970, с. 42; Виноградов В. В. Стиль Пушкина. – М., 1941, с. 306–307.]; а также небольшая статья В. Ржиги, опубликованная в 30-е годы [4] [Ржига В. «Тень друга» К. Н. Батюшкова. – Памяти П. Н. Сакулина.: Сб. научных трудов. – М., 1931, с. 239–241.]). «Тень друга» остается в стороне и тогда, когда выясняются общие закономерности поэзии Батюшкова. В качестве иллюстраций используются обычно другие стихи. Не потому, что они «лучше» или «хуже» названного. Они лежат на уже осознанных нами путях творческого развития поэта, попадают в «графы» разработанной классификации.
Ситуация – лишь повод или скорее трамплин для полета чувства. Нетерпеливо-страстного – в элегии Пушкина. У Жуковского – умиротворенно-созерцательного, как вздох и взгляд, обнимающие вселенную: «Звезды небес! Тихая ночь!..» [12] [Жуковский В. А. Стихотворения. – Л., 1965, с. 253.] Рефлективно-тревожного – у Батюшкова. Различны не только миросозерцание и темперамент; глубоко значима сама манера письма. «Тень друга» более архаична, чем поздние шедевры Жуковского и Пушкина. Но, пожалуй, и более неожиданна. Тема запредельной встречи с вечной возлюбленной с времен Данте и Петрарки ощущается как каноническая, «литературная». Рассказ о видении друга, чьи «глубокие раны», смерть, погребение помнятся с ясностью вчерашнего дня, более свободен от канона, психологически единичен. Поэтому же он и заново таинственен. Случившееся не воспринимается как данность (тональность Жуковского). Оно вызывает вихрь вопросов, жажду полета за исчезнувшим, попытку внутренне «переиграть» прошедшее. Именно этот смысловой подтекст имеет у Батюшкова колеблющаяся альтернатива сна и яви. «И вдруг... то был ли сон?.. предстал товарищ мне», [13] [Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе.– М., 1977, с. 222. – В дальнейшем произведения Батюшкова цитируются по этому изданию, страница указывается в тексте.] – так открывается рассказ о видении. Сомнение, звучащее здесь, не традиционная дань риторике. Происходящее столь живо, столь отрадно для сердца, что на мгновение реальное и ирреальное меняются местами:
Понятие «сон» теряет бытовую определенность, выступает как знак особого, провидчески-дремотного состояния души.
писал поэт поколения, шедшего вслед за Батюшковым, – Баратынский. [14] [Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. – Л., 1957, с. 129.] Лирика, знающая по сути лишь одну реальность – мир субъекта – дает для воплощения этого «бытия» наибольшие возможности. Лирическое преображение действительности совершается в стихотворении Батюшкова не только в области события. Оно и в той развивающейся эмоциональной атмосфере, которую условно можно было бы назвать колоритом вещи. Условно, поскольку в отличие от живописи колорит в поэзии – явление не чисто цветовое (и даже по преимуществу не цветовое). Опосредованные зрительные впечатления сопряжены здесь с ощущениями слуховыми, с образами целостных психофизических состояний. В комплекс входит и воздействие «звучащей материи стиха» – его фонетики и ритма. Для «Тени друга» камертон – магическая первая строка,– торжественно-плавная, замедленная:
Обилие поющих гласных дает стиху «протяженность». Необычная расстановка слов снимает речевой автоматизм, настраивает скорее слушать, чем «понимать». Двойная инверсия выносит в центр строки не субъект или действие, а «бесплотный» призрак – слово «туманный». По законам «стихового ряда» (термин Ю. Н. Тынянова) оно «заражает» значением оба соседних – «берег» и «Альбиона». Второе еще больше, чем первое: оно и само выделено редкостным звучанием, ритмически-сильным положением в строке. Так создается «поэтическая формула» – «туманный Альбион» [15] [О стилистике «поэтических формул» см.: Гинзбург Л. О лирике. 2-е изд. – Л., 1974, с. 29–30. Один из признаков «формулы» – повторяемость. В стихотворении «На развалинах замка в Швеции» читаем: «Туманный Альбион из края в край пылает (...)» (203).] – эмоциональное предвестие всего лирического потока. Спустя десятилетие В. К. Кюхельбекер, осмеивая «унылую» поэзию, выстроит ряд ее «общих мест». Его завершает «в особенности же – туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя». [16] [Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. – В кн.: Литературно-критические работы декабристов. – М., 1978, с. 194.] Наблюдение, если отвлечься от окрашивающей его иронии, достаточно точное. «Туманность» – непременный признак «северной», «оссиановской» элегии. О пушкинском Ленском, творце «северных поэм», характерно сказано:
Эпитет включен в стиховой ряд по законам стилистики, близкой батюшковской. Инверсия ставит его между двумя понятиями: «Германия» и «ученость». Логика отступает перед иронически педалированной традицией. Поэтическая формула торжествует над географией: «туманная Германия» подменяет собой «туманный Альбион». Вернемся, однако, к стихотворению Батюшкова. В «Тени друга» слово «туманный», заданное первой строкой,– ключ к общему колориту вещи. Его намечает зрительный план второй строки – «свинцово»-серый тон, [18] [См. отражение того же тона в уже упоминавшемся стихотворении Цветаевой: «Я вижу тусклых вод взволнованное лоно / И тусклый небосвод, знакомый наизусть.»] образ исчезающего из глаз берега:
Его поддерживают варианты повторов:
Или:
Слуховые впечатления (также опосредованные) соответствуют пейзажу, где главное – туманная размытость очертаний. Автор воссоздает вереницу однообразных звуков, сливающихся в сплошной шумовой поток:
И снова: «(...) ветров шум и моря колыханье». «Колыханье» – и в прямом ритмическом воздействии стиха, в правильном чередовании строк 6-, 5-, 4-стопного ямба. Фону отвечает ряд внутренних состояний. Это – «сладкая задумчивость», «очарованье», «воспоминанье» и, наконец, «сладкое забвенье», синонимами которого выступают не только «сон», но и «мечта». Цвет, звук, внутреннее состояние нерасторжимо сплетены: лирическое «я» почти растворено в туманном мире. Но это – лишь пролог к необычайному. Явление призрака резко («вдруг») разбивает гармонию «средних» тонов. (Одновременно нарушается и правильность чередования строк разной величины, и однотипность их синтаксического строя). [19] [В. В. Виноградов отмечает у Батюшкова «неожиданные и взволнованные переходы, предполагающие эмоциональную паузу, тонкие изменения тона, связанные с ломкой традиционных логических основ поэтического синтаксиса». (Виноградов В. В. Указ. соч., с. 306).] Тень друга вносит с собой подобие сияния:
«Небесное», однако, не может вполне заслонить земное. Ощущение света сопровождает живая память о «страшном зареве Беллониных огней», о мольбе и рыданьях над «безвременной» могилой. «Горний дух» окружен рамой «бездонной синевы», а рядом – образы темные, смутные. И главное: мгновение высшего торжества света есть и момент его утраты:
Сшибка полярных начал разрешается возвращением к туманной яви:
Но возврат неполон. Душа, потрясенная светом, не разделяет больше дремотного покоя мира. Она стремится вслед за призраком. Элегия кончается жестом полета за исчезнувшим, призыванием, протяжным и горестным:
Таков общий итог совершающегося в стихотворении эмоционального движения. Оно сопутствует сюжету как цепочке фактов, ставя в центр произведения событие лирическое. Принято считать, что лирический ракурс событийности проявляет себя в фрагментарности изображения, свернутости действия до зародыша ситуации. [20] [Грехнев В. А. Указ. соч., с. 192.] Не спорю. Но в нашем случае важнее иное. В силу присущей лирике обобщенности, повышенной информативности событие, сохраняя единичную конкретность, получает здесь и некий сверхсмысл. Он встает из эмоционального подтекста стихотворения, из его меняющегося колорита. Активизирует его и «большой контекст» поэтической книги, динамика межстихотворных связей. Вторая (стихотворная) часть «Опытов» Батюшкова построена по жанровому принципу, но возможность композиционной семантики этим не снята. Сборник открывает предшествующее всем разделам стихотворение «Друзьям» – посвящение и одновременно тематическая заставка. Тему подхватывает элегия «Дружество», помещенная непосредственно перед «Тенью друга». Два эти стихотворения связаны особенно тесно. Они являют собой как бы две ступени движения поэтической мысли, два способа ее подачи: нормативно-обобщенный и личностно-единичный (по определению Л. Я. Гинзбург – дедуктивный и индуктивный [21] [Гинзбург Л. Частное и общее в лирическом стихотворении. – В кн.: Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. – Л., 1987, с. 96–97.]). «Дружество» строится как подтверждение заданного тезиса:
Далее следуют иллюстрации, ссылка на античные «образцы», упоминание бессмертных дружеских пар. Перечисление подчинено принципу градации (его завершает величайший герой древности – Ахилл), но в основе своей статично. Мысль не выходит за пределы намеченного уровня, качественно не меняется. Такой строй естественен, если воплощается, «припоминается» уже известное. По отношению к «Тени друга» «Дружество» выступает в роли своеобразного введения, той первой стадии познания, за которой наступает черед индивидуального поиска. Связующее звено между произведениями – предваряющий «Тень друга» эпиграф из Проперция:
В дословном переводе:
Строки Проперция подключают стихотворение к общей с «Дружеством» сфере античности и в то же время неуловимо смещают тему. Речь идет уже не только о вечности чувства, но и о бессмертии души человеческой. Сверхсмысл лирического события в «Тени друга» – утверждение неизбывности духовной субстанции бытия. Дружеская любовь и сама душа – лишь разные проявления этой единой субстанции. Так, погружение в мир произведения открывает его «многослойность». На поверхности – присущая всем арзамасцам апология дружбы. Вполне искренняя, подлинная, она призвана удовлетворить читателя, склонного к традиционным впечатлениям. Но по глубинному своему смыслу стихотворение обращено к читателю нового типа, к тому, чьи вкусы еще только должны быть сформированы романтизмом. В элегии звучит любимый романтиками всех времен (от Жуковского – до Блока) мотив запредельного «зова». В русской литературе наиболее законченное воплощение этого мотива – «Таинственный посетитель» Жуковского. Написанное через десятилетие после «Тени друга», стихотворение это несет в себе завершенность абсолютного итога. Загадочность «прекрасного гостя» и здесь служит поводом для вереницы вопросов, но они свободны от внутренней тревоги. Неопределенности даны четко обозначенные пределы, единичное возведено в закон:
Батюшков, формально более далекий от романтизма, нежели Жуковский, в некоторых его гранях выступил как первооткрыватель. Причем оплачивал эти открытия ценой жизненной трагедии. Потеря того, что поэт называл своей «маленькой философией» (просвещенный гедонизм), безмерно усложнила его отношения с людьми и миром. Появилось чувство несравненно более высокой духовности бытия, но одновременно и пугающей его иррациональности. Религия, к которой Батюшков пробовал обратиться, не давала безусловной устойчивости. Она не имела в его сознании статуса систематической изначальной истины (тип миросозерцания Жуковского). «Соприкосновение мирам иным» становилось при таких условиях источником смятения, порождало счастье и боль, жажду полета и муку оставленности. «Тень друга» в отличие от «Таинственного посетителя» живет не констатацией общего закона, а личностным участием в событии, потрясающем душу. Отсюда – неизбывная действенность стихотворения, ощущение актуальности художественного открытия – при некоторых чертах архаичности формы. Но и занижать «удельный вес» этой архаики неправомерно: она являет собой не внешнюю оболочку мысли, а информативно-содержательный ее элемент. Русскую поэзию начала и второй половины XIX в. разделяет не только стиль выражения, но и характер чувствования. Со времен Фета, позднего Тютчева, Полонского лирика обрела право на импрессионистическую недосказанность. Намек, штрих, ассоциативная «прерывистость» стали осознаваться как родовые признаки, свойства, противополагающие лирический «полет» замедленному течению эпоса. Предпушкинская и частично пушкинская поэзия такого противоположения не знает. Напротив, ей присуща установка на особую полноту изживания эмоции, «протяженность» жалобы. Она стремится длить сам процесс эстетического переживания. Возможно, так сказывалась ориентация литературы на ритуальные формы поведения, занимавшие в жизни человека XVIII столетия весьма значительное место. В лирике начала XIX в. явно присутствуют реликты обрядовости – ритуальные моменты ораторского витийства, похоронного плача, мольбы-заклинания. Отразила их и батюшковская «Тень друга». И – новый парадокс: самой архаичностью своей стала созвучной поэзии первых десятилетий нашего века. Крупнейшие художники этой эпохи – О. Мандельштам, М. Цветаева – по-своему воскрешали некоторые стороны «старой» манеры – напев замедленной жалобы, плавность величавой патетики. Не в этом ли одна из причин особой привязанности к Батюшкову со стороны Мандельштама или обращения к нему Цветаевой, создавшей «вариант» «Тени друга» – строки, вынесенные в эпиграф этой работы:
Божественная высь! Божественная грусть! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||